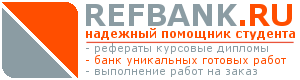
|
|
Аполлон Григорьев – неизвестный поэт XIX векаСОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ. Творческий путь А. Григорьева 3 "Последний романтик" - Аполлон Григорьев 6 А. Блок об Аполлоне Григорьеве 21 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 24 ВВЕДЕНИЕ Начнем с нескольких цитат. "В стихах и в поэтической прозе, в музыке, в живописи, в ваянии, в зодчестве - поэзия все то, что в них не искусство, не усилие, то есть мысль, чувство, идеал". "Поэт творит словом, и это творческое слово, вызванное вдохновением из идеи, могущественно владевшей душою поэта, стремительно переходя в другую душу, производит в ней такое же вдохновение и ее так же могущественно объемлет; это действие не есть ни умственное, ни нравственное - оно просто власть, которой мы ни силою воли, ни силою рассудка отразить не можем. Поэзия, действуя на душу, не дает ей ничего определенного: это не есть ни приобретение какой-нибудь новой, логически обработанной идеи, ни возбуждение нравственного чувства, ни его утверждение положительным правилом; нет! - это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое действие откровенной красоты, которая всю душу охватывает и в ней оставляет следы неизгладимые, благотворные или разрушительные, смотря по свойству художественного произведения, или, вернее, смотря по духу самого художника". "Для того чтобы писать стихотворения, талантливому к словесности человеку только нужно приучить себя к тому, чтобы уметь на место каждого, одного настоящего, нужного слова употреблять, смотря по требованию рифмы или размера, еще десять приблизительно то же означающих слов и приучиться потом всякую фразу, которая, для того чтобы быть ясной, имеет только одно свойственное ей размещение слов, уметь сказать, при всех возможных перемещениях слов, так, чтобы было похоже на некоторый смысл; приучиться еще, руководясь попадающимися для рифмы словами, придумывать к этим словам подобия мыслей, чувств или картин, и тогда такой человек может уже не переставая изготовлять стихотворения, смотря по надобности, короткие или длинные, религиозные, любовные или гражданские". "Помилуйте, разве это не сумасшествие - по целым дням ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать во что бы то ни стало в размеренные, рифмованные строчки. Это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу приседая". Две первые цитаты принадлежат современникам и друзьям Пушкина, поэтам Кюхельбекеру и Жуковскому; две вторые - его далеко не худшим последователям, прозаикам Льву Толстому и Щедрину. Как видим, отношение к поэзии, выраженное и этих цитатах, прямо противоположное: вместо восхищения и преклонения - уничижение и презрение к стихотворцам и их "продукции"1. Отчего возник этот чудовищный разлад в мыслях? Проще всего было бы ответить на этот вопрос так: пушкинская эпоха была высоким, золотым веком русской поэзии, потом же на смену ему пришел век прозы, а поэзия сначала отошла на второй план, а затем и вовсе прекратила свое существование. Об этом, впрочем, писали и русские критики, начиная с Полевого и Белинского; об этом же с присущей ему безапелляционностью заявлял и Лев Толстой: "В русской поэзии после Пушкина, Лермонтова (Тютчев обыкновенно забывается), поэтическая слава переходит сначала к весьма сомнительным поэтам Майкову, Полонскому, Фету, потом к совершенно лишенному поэтического дара Некрасову, потом к искусственному и прозаическому стихотворцу Алексею Толстому, потом к однообразному и слабому Надсону, потом к совершенно бездарному Апухтину, а потом уже все мешается, и являются стихотворцы, им же имя легион, которые даже не знают, что такое поэзия и что значит то, что они пишут и зачем они пишут". Может быть, матерый человечище и тут прав и русскую поэзию после Пушкина и Лермонтова надо забыть и вычеркнуть из нашей памяти? Похоже, однако, тут все-таки что-то не совсем так. По крайней мере, если вспомнить с детства знакомые каждому стихи Тютчева и Фета, Некрасова и Майкова, Полонского и Плещеева или песню на слова Аполлона Григорьева "О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..". Аполлон Александрович Григорьев - внук безвестного провинциала, крестьянина по происхождению, прибывшего в Москву на заработки; благодаря уму и старанию дед затем дослужился до высоких чиновничьих должностей, получил дворянство. Отца поэта, воспитанника Благородного пансиона и Московского университета, могла бы ожидать блестящая чиновничье-дворянская карьера, если бы он не полюбил дочь крепостного кучера. Скандальная для родных и знакомых свадьба состоялась уже после рождения сына Аполлона (родился 16 июля 1822 года), поэтому мальчик оказался незаконнорожденным и долго именовался московским мещанином. Зато отец дал ему прекрасное домашнее образование. Минуя гимназию, Аполлон поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1842 году первым кандидатом. Григорьев был оставлен при университете, вначале библиотекарем, затем секретарем Совета. Однако должности эти оказались не по душе молодому кандидату: он забывал регистрировать выдачу книг - и большая часть университетской библиотеки оказалась безвозвратно утраченной; он неаккуратно вел протоколы Сонета - и уже через год в записях невозможно было что-нибудь понять... С. юных лет Григорьева тянуло не к ученой и не к административной карьере, а к художественному творчеству. Уже и студенческие годы, вместе со своими сокурсниками Л. Л. Фетом и Я. П. Полонским, он организовал нечто вроде литературного кружка, члены которого читали друг другу собственные стихотворения. В девятнадцать и двадцать лет Григорьев уже писал те стихи, за которые поэзию его можно полюбить. Фет и Полонский свидетельствуют, что сам он приходил от них в отчаяние. "Писал Аполлон и лирические стихотворения, выражавшие отчаяние юноши по случаю отсутствия в нем поэтического таланта. "Я не поэт, о Боже мой!" - восклицал он: Зачем же злобно так смеялись, Так ядовито надсмехались Судьба и люди надо мной? Полонский впоследствии обозвал стихи Григорьева "смесью метафизики и мистицизма". Друзья Григорьева начали печататься еще на студенческой скамье, сам же он с 1843 года. А в следующем году Григорьев бросил службу и тайно убежал из дому в Петербург - без всяких связей и знакомств, в божий свет! В столице он становится профессиональным литератором, пишущим и стихи, и драмы, и прозу, и критику, театральную и литературную. В 1846 году выпускает первым - и единственный - сборник стихотворении. Тогда же сближается с кружком Петрашевского. Сильное влияние оказывают на Григорьева идеи Фурье. Мировоззрение Григорьева не было цельным и устойчивым: он переходил от одних убеждений к другим, пытаясь найти собственную идейную позицию. Испытав влияние славянофильской идеологии, Григорьев с 1851 но 1854 год возглавлял "молодую редакцию" "Москвитянина". Это время - расцвет его критической деятельности. В 1858 году Григорьев редактирует журнал "Русское слово", а затем сближается с Ф. М. Достоевским и становится в 1861 году сотрудником журнала "Время". Григорьев был исключительно страстной и увлекающейся натурой. Он являл собой живое воплощение напряженного гамлетизма и одновременно идеального, романтически беспомощного донкихотства. Материально он не был обеспечен и временами страшно голодал, не однажды сидел в долговой яме. Измученный физически и нравственно, он скончался от удара в Петербурге. 1. "ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК" - АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ Трудно найти в истории русской культуры и общественной мысли фигуру более сложную, чем Аполлон Григорьев. Мистик, атеист, масон, петрашевец, славянофил; артист, поэт, редактор, критик, драматург, фельетонист; чистый, честный юноша, запойный пьяница, душевный, но безалаберный человек, добрый товарищ, и непримиримый полемист, страстный фанатик убеждения, напоминающий этим Белинского,- таков облик Григорьева, мозаично рассыпавшийся на несоизмеримые элементы в глазах многих современников и потомков. Уже после его смерти, 3 апреля 1876 года. Я. П. Полонский писал Л. П. Островскому: "Я знал Григорьева как идеально благонравного и послушного мальчика, в студенческой форме, боящегося вернуться домой позднее 9 часов вечера, я знал его как забулдыгу. Помню Григорьева, проповедующего поклонение русскому кнуту - и поющего со студентами песню, им положенную на музыку: "Долго нас помещики душили, становые били!" Помню его не верующим ни в бога, ни и черта - и в церкви на коленях молящегося до кровавого пота. Помню его как скептика и как мистика, помню его своим другом и своим врагом. Правдивейшим из людей и льстящим графу Кушелеву и его ребяческим произведениям! Одним словом, чем больше я думаю о Григорьеве, тем более понимаю, отчего, несмотря на свой громадный критический талант, он в литературе не оставил почти что никакого следа, т. е. имел так мало людей, которые были бы способны вполне понимать его. Самая внезапная смерть его, чуть ли не с гитарой в руках - минута трагическая. Вы знали его ближе, чем я, и, несомненно, во 100 раз лучше меня его понимали. Не попробуете ли вы когда-нибудь воссоздать этот образ в одном из ваших будущих произведений? Григорьев как личность, право, достоин кисти великого художника. К тому же это был чисто русский по своей природе,- какой-то стихийный мыслитель, не возможный ни в одном западном государстве". Увы, Островский, действительно очень хорошо знавший Григорьева, не отметил его своей кистью, если не считать отдаленного сходства в характере и поступках Петра ("Не так живи, как хочется"). Правда, другие наши великие писатели не прошли мимо колоритной фигуры современника: некоторые черты, особенно биографические, в истории Лаврецкого ("Дворянское гнездо") непосредственно заимствованы Тургеневым из бесед с Григорьевым, а Лев Толстой при изображении Федора Протасова ("Живой труп") использовал и психологические особенности характера Григорьева; некоторые реплики и черты характера Мити Карамазова у Достоевского напоминают Григорьевские. Самоанализ, самораскрытие, проявленные в мемуарах, и рассказах, стихотворениях, письмах Аполлона Григорьева, дают нам значительно больше представления об этой незаурядной человеческой личности. Григорьев с его романтическим мироощущением очень субъективен в своей прозе и лирике: герой его произведений по замыслу всегда является у него вторым "я" автора; Григорьев и в чужой лирике всегда отождествлял героя и поэта, хотя бы к тому и не было достаточно оснований. Однако объективно григорьевский герой, как у всякого большого писателя и поэта, перерастает автобиографизм, становится художественно обобщенным персонажем: таков, например, страдающий "больной эгоист" - герой григорьевской прозы и стихов 1840-х годов2. Проза и поэзия Григорьева своеобразно соотносятся с его критическими статьями: в критике Григорьев всегда тоже довольно субъективен и автобиографичен. Лирические отступления в критических статьях, субъективные пристрастия, конечно, встречаются у многих литературных критиков, но у Григорьева в текст статьи может включаться настоящий автобиографический отрывок: см., например, "Стихотворения Н. Некрасова" (1862), где критик от анализа рецензируемых произведений неожиданно переключается к воспоминаниям о Берлинской картинной галерее и о беседах с В.П. Боткиным о судьбах русского искусства. Прихотливый жанровый сплав представляет собой статья "Гоголь и его последняя книга": она создана на основе подлинных писем, посылавшихся Григорьевым автору "Выбранных мест из переписки с друзьями". В эту статью также вошли своего рода дневниковые фрагменты, отступления, похожие на автобиографический экскурс в статье "Стихотворения Н. Некрасова". И автобиографическая проза, которую здесь находим,- обнаженно личная, вплоть до интимных, задушевных признаний. Но в критике Григорьев стремился все-таки к объективным меркам, к недосягаемому, но явленному идеалу, с которым соразмерялось анализируемое произведение (в разные времена в качестве идеала у Григорьева оказывались творчество Гоголя, Островского, Пушкина); высоким и строгим был и этический идеал Григорьева-критика, тоже для него немаловажный; статья поэтому приобретала торжественный, приподнятый характер, несколько абстрагированный, надличностный. В собственном же творчество писатель тоже, конечно, не забывает об идеалах, но здесь он значительно более откровенен, сиюминутен, раскован. Многие повести и стихотворения Григорьева интересны своей "непричесанностью", черновым характером, подобно лихорадочной дневниковой записи взволновавшего события; такие произведения теряют в смысле художественной завершенности, целостности, обработаииости, но приобретают значение удивительно искренней исповеди о жизненных тревогах, драмах, надеждах... Исповедальность, непричесанность, субъективизм - характерные черты романтическою метода. Григорьев и в самом деле вырос и воспитался в романтическую эпоху. Ее влияние было настолько мощно, что уже совсем в другие времена, в пятидесятых - шестидесятых годах, когда господствовал реализм, оказавший сильное воздействие и на Григорьева, наш литератор все-таки считал себя романтиком, причем "последним романтиком". Следует также учитывать и особенный душевный склад Григорьева, его артистическую, взрывную натуру с неуемными страстями, с мучительными поисками гармонии. В утилитарную и грозную пору шестидесятых годов "последний романтик" чувствовал себя особенно одиноким. Впрочем, трагический отпечаток лежит на всем творчестве Григорьева во все периоды: напряженная духовная жизнь, встречавшая главным образом насмешки и непонимание, мало способствовала спокойному и тем более оптимистическому отношению к реальной действительности; единственными радостными событиями для Григорьева были выдающиеся произведения литературы, о которых он оставил прекрасные критические статьи, особенно - драмы Островского и романы Тургенева. Личная жизнь тоже приносила Григорьеву чрезвычайно мало радостей: он был в постоянном раздоре с семейным кругом. Ему, умному и остроумному собеседнику, красивому мужчине, удивительно не везло в любви: любимые предпочитали ему "положительных", обстоятельных, практичных... Экзальтированная, страдальческая, поэтически прихотливая, предельно ранимая и слабая натура Григорьева лишала его успеха у тех женщин его окружения, к которым он глубоко привязывался. В очерке "Великий трагик" Григорьев полушутя - полусерьезно обращается к себе с упреком, что он до сих пор не написал на тему о "трагическом в искусстве и жизни". Но фактически эта тема в полный голос звучит почти во всех произведениях Григорьева всех жанров. * * * Романтическая молодость бросала Григорьева, как справедливо отметил Полонский, из одной крайности в другую. Середина сороковых годов, переходная пора к последнему десятилетию царствования Николая I, отличалась, при внешней замороженности жизни, глубокими и интенсивными духовными исканиями русской интеллигенции, образованием идейных групп, резкими конфликтами и спорами. Вначале Григорьев увлекся масонством, вступил в какой-то тайный кружек. Его, очевидно, привлекали, как и толстовского Пьера Безухова, грандиозные утопические идеи коренного переустройства мира на началах братства, любви - в сочетании с романтической тайной, мистикой. А от масонства был близкий путь к увлечению христианским социализмом Жорж Санд и утопическими теориями Фурье. Правда, масонская нормативность, насильственное навязывание человечеству моральных догм, как и регламентированное устройство общества в программах утопических социалистов, вызывали у романтика протест. И увлечения, и отталкивания этого рода нашли широкое отражение в творчество Григорьева тех лет. Разочарованный Петербургом, Григорьев в 1847 году снова возвращается в Москву. Здесь он сближается с только что входящим тогда в литературу А.Н. Островским, организует с ним так называемую "молодую редакцию" журнала "Москвитянин", близкую по идеалам к "старшим" славянофилам; (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский): у Григорьева были тоже неприятие буржуазного мира, буржуазных принципов и та же мечта о патриархальном народе, свободном, щедром, талантливом, но он, при всей своей религиозности, враждебно относился к официальной церкви и не верил, что помещики и крестьяне представляют собой образцовый патриархальный народ, ибо они опутаны крепостными отношениями, сковывающими волю, а истинно свободным сословием оказывалось, по Григорьеву, городское мещанство и особенно купечество. Поэтому в своих литературно критических статьях этого времени Григорьев идеализирует "патриархальные" пьесы Островского начала 1850-х годов о купеческом мире: "Не в свои сани не садись", "Бедность не порок", "Не так живи, как хочется", идеализирует художественный образ Любима Торцова ("Бедность не норок"). Центральная, обобщающая статья этого периода - "О комедиях Островского" (1855). Своеобразный романтический анархизм Григорьева делал его бунтарем одиночкой, враждебным чуть ли не всем общественным группам шестидесятых годов, радикальным и консервативным. Поэтому он не задерживался ни в одном журнале более чем на год, невольно вступая в резкий конфликт с редакцией, и переходил в другой печатный орган. Даже с относительно близким ему Ф. М. Достоевским, в журналах которого "Время" и "Эпоха" Григорьев активно и долго печатался, у него непрерывно возни кали напряженные отношения. Григорьев метался между журналами, между Москвой и Петербургом, уезжал даже на год в Оренбург, что было неожиданным не только для знакомых, но и для него самого (преподавал там в 1861/62 учебном году в кадетском корпусе), и все время оставался одиноким. Талантливый и самобытный литератор оказывался парией, отверженным от видных журналов и литературных группировок эпохи. Нерегулярность работы, случайные заработки приводили к хроническому безденежью, к кабальным займам, а потом к заключению в долговую тюрьму. К тому же Григорьев не отличался бережливостью и если уж зарабатывал некоторую сумму денег, то немедленно ее растрачивал. Богемная жизнь, невезение в любви вкупе с глубокими душевными страданиями из-за идеологического и художественного одиночества, частые тюремные отсидки - все это сильно подрывало здоровье поэта. И, только что выйдя из долговой ямы, Григорьев скоропостижно скончался 25 сентября (старого стиля) 1864 года, всего сорока двух лет от роду. С детства лирик до мозга костей, с детства писавший стихи, Григорьев уже в ранних критических статьях заметен как лирический критик. И наоборот, интенсивная деятельность молодого Григорьева в области литературной и театральной критики не могла не оказать влияния на его стихотворения, поэмы, стихотворные драмы. И дело здесь не только в прямых вкраплениях критических материалов в поэтический текст (см. с этой точки зрения драму "Два эгоизма"), а в более глубинной критической основе, которая прямо может и не проявляться, но служит именно методологическим фундаментом для особого взгляда на жизнь, на человека, на литературу и театр. В "лермонтовских" сатирических инвективах, в характеристике и оценке "больной" личности русского интеллигента 1840-х годов, в борьбе с фатализмом, с судьбой, где просвечивается критическое неприятие "гегелизма" и натуральной школы, истолковывавшихся Григорьевым именно как рассадники жизненного фатализма, во всем этом поэтическом мире Григорьева чувствуется влияние его критического наследия. Из всех видов творческой деятельности Григорьева наибольшую известность получила его поэзия, по крайней мере, она на многие десятилетия затмила даже его литературную критику, лишь сейчас возрождающую свою популярность. Поэтому остановимся на поэзии Григорьева несколько более подробно. Поэтическое наследие Григорьева в его полном объеме сложно и многоаспектно. Оно включает в себя, наряду с фольклорными влияниями, романтическую традицию лермонтовского плана; страстность, экзальтированность французской и польской лирики; трезвую, грубоватую правду натуральной школы; психологическую аналитичность новой русской прозы, - а в целом оно оригинально и неповторимо, как неповторима всякая талантливая личность. Надо сказать, что человеческая личность Григорьева еще глубже и сложнее его поэзии. Всегда соотношение между человеком и поэтом отнюдь не однозначно. Григорьев как личность лишь отдельными гранями своего художественного мировоззрения реализовался в поэзии, но эти грани глубоки и интересны. Общественные и социалистические (в христианском и масонском духе) увлечения молодого Григорьева широко отразились в его лирике. Поэт и критик Аполлон Григорьев вошел в репертуар вольной русской поэзии тремя стихотворениями, широко распространенными в списках. "Прощание с Петербургом", "Нет, не рожден я биться лбом...", "Когда колокола торжественно звучат...". Эти стихотворения написаны в очень небольшой промежуток времени, почти подряд, в 1845-1846 годах. В них нашли характерное отражение фурьеристские увлечения Григорьева, с их отрицанием буржуазно-капиталистической цивилизации, верой в утопический идеал свободного патриархального народа и душевно независимого человека. Вольнолюбивые настроения поэта ярко отражали его неприязнь к холодной и бездушной столице, к городу, в котором царствует насилие и процветают чиновные бюрократы. Прощай, холодный и бесстрастный, Великолепный град рабов, Казарм, борделей и дворцов, С твоею ночью гнойно-ясной, С твоей холодностью ужасной К ударам палок и кнутов... Кроме "Прощания с Петербургом" известно еще стихотворение "Город", являющееся, в сущности, его легальным вариантом. Это стихотворение Белинский в 1846 году назвал "прекрасным" и писал, что в нем "есть сила, а в целой пьесе дышит своего рода поэтическое обаяние; но всего более поражает нас в ней болезненно настроенный ум"3. В неотчетливых, а порою и противоречивых взглядах Григорьева важное место занимает философски усложненное понятие "борьбы"; с ним непосредственно связано отстаивание внутренне свободной жизненной позиции поэта и неприятие страдания и гнета в любой его форме, даже традиционно-религиозной4. Однако в историю русской поэзии Григорьев пошел не только как автор сатирических стихотворений: главной его темой всегда являлась "душа", психология личности в ее сложных взаимодействиях с миром, особенно - в ее неуклонном отталкивании от общества. Вослед пушкинскому образу "беззаконной кометы" из стихотворения "Портрет" тема кометы стала самой заветной и дорогой для Григорьева, начиная с ранних стихотворений "Комета", "Волшебный круг", "Над тобою мне тайная сила дана..." (все три - 1843 года). Образы кометы, непредсказуемой и хаотической стихии - не просто личная слабость поэта, отражающая его склонности, органические черты его характера. В этом оказались глубинные процессы, свойственные России или даже более широко - всей Европе XIX - начала XX веков: в механистичном, все мощнее стандартизирующемся мире живые силы не могли не бунтовать, не выражать хотя бы анархического протеста против всеобщей униформы. Чуткая литература тоже не могла не отобразить этой тенденции: григорьевские "кометы" расположены на магистральном пути от подобных персонажей у Пушкина и лермонтовских Демона, Арбенина, Печорина - к героям Достоевского, к цыганской теме в русской литературе второй половины XIX века, к эксцентрическим образам Лескова, к лирике Блока. В рамках же григорьевской поэзии образ кометы включается в более общую, традиционно романтическую тему страданий благородной, глубокой по уму и чувствам личности, не понятой обществом и, конечно же, не понятым ею, избранницей сердца. Любовная лирика Григорьева, разумеется, с соответствующими оговорками, особенно автобиографична. Еще в конце своей студенческой жизни он сблизился с литературной семьей Коршей. Наиболее известны два брата Коршей, Евгений и Валентин,- журналисты и участники либеральных кружков Москвы и Петербурга. Григорьев отчаянно влюбился в их сестру Антонину Федоровну Корш, и все его творчество первой половины сороковых годов окрашено любовью к Антонине. Но она предпочла солидного К. Д. Кавелина, будущего известного либерального ученого и публициста. Григорьев позже женился на младшей сестре Антонины, Лидии Федоровне Корш. Брак оказался неудачным, фактически он распался уже в первые годы совместной жизни из-за легкомысленного поведения жены. Григорьев очень тяжело переживал ее измену, что нашло в последствии превосходное художественное изображение в романе "Дворянское гнездо", создававшемся Тургеневым во время тесного дружеского общения с Григорьевым. В начале пятидесятых годов поэт встретил Леониду Яковлевну Визард, красивую москвичку французского происхождения, дочь учителя, коллеги Григорьева по Воспитательному дому (Григорьев преподавал там законоведение, Визард - французский). Семья Визардов была в гуще ученых, литературных, музыкальных интересов: брат Леониды Яковлевы Дмитрий был секретарем профессора Т. П. Грановского, сама Леонида служила учительницей в доме Н.Г. Фролова, участника кружка Герцена - Огарева, ученого и журналиста, музыку молодым Визардам преподавала Е. С. Протопопова, будущая жена знаменитого химика и композитора А.П. Бородина. Многолетняя безответная любовь Григорьева к Леониде Яковлевне - самое сильное его чувство, оно преследовало его всю жизнь, даже перед смертью он пишет стихотворение, обращенное к "далекому призраку", Леониде Яковлевне. По она тоже предпочла другого, вышла замуж за приятеля Григорьева, второстепенного драматурга и актера М.Н. Владыкина. Вся поэзия Григорьева пятидесятых - начала шестидесятых годов, и прежде всего циклы "Борьба" и "Титания", все поэмы - пронизаны этой драматической любовью. Лишь и 1859 году Григорьев встретил женщину, но настоящему полюбившую горемычного поэта, но эта бурная снизь оказалась тоже далекой от гармонического единства. Мария Федоровна Дубровская, взятая Григорьевым буквально из притона, была малообразованной, но она сильно тянулась к "культуре", к "свету". В этой тяге было и искреннее желание стать вровень с любимым человеком, и искреннее стремление к "чистой" жизни, но, к сожалению, все это густо замешивалось завистью, своеобразным комплексом, столь характерным не только для русского, но для всемирного мещанства: представлением, что именно "там", в "свете", существует "настоящая" высокая жизнь, в которую не пускают неизбранных. Больше всего Мария Федоровна терзала Григорьева именно подобным комплексом. В поэме "Вверх по Волге" чуть ли не впервые в русской литературе Григорьев отобразил сложный, изломанный характер тянущейся к "свету" мещанки. Между прочим, не исключено, что некоторые черты героинь Достоевского взяты писателем из его наблюдений над семейной жизнью Григорьева (ссорясь и временно уходя, поэт все-таки почти до самой смерти не порывал с Марией Федоровной). Весь многоцветный и хаотичный мир интимных чувств Григорьева нашел замечательное воплощение в его поэзии. Ни в коем случае не следует, однако, понимать лирические стихотворения, циклы, поэмы как дневники, буквальные автобиографические записи. Лирическое творчество всегда преподносит и обобщение, и хронологическую инверсию, и вторжение в действительность. Рассмотрим наиболее характерные для Григорьева стихотворения из его лучшего цикла "Борьба", чтобы яснее понять эстетические принципы автора и связи его поэзии с действительностью. Циклизация стихотворений в единое целое является существенным жанровым явлением позднеромантической поры, в том числе характерным и для русской литературы сороковых - пятидесятых годов: с одной стороны, поэты явно тянутся к широкому охвату чувств и событий, им тесно и рамках отдельных стихотворений, а с другой - им недостает масштабного кругозора, необходимого для создания цельносюжетной поэмы, а когда авторы все-гаки создавали поэмы, то они были или стихотворными переложениями жанра повести натуральной школы, или неоконченными отрывками. Поэтому формируются циклы, где есть хотя бы пунктирно очерченное движение мысли или фабулы, и в то же время это собрание малых стихотворений, каждое из которых значимо и само по себе. Почти все его циклы основаны на романтической интенсивности чувства, его динамическом напоре, рвущем границы одного стихотворения, но в эту романтическую основу вмешивалось глубокое воздействие реалистического метода (натуральной школы сороковых годов и психологической прозы пятидесятых), воздействие историзма и, следовательно, исторического, событийного движения, превращающего цикл в сюжетную повесть. Уже первое стихотворение из цикла "Борьба" начинается чрезвычайно показательным для Григорьева негативным оборотом: "Я ее не люблю, не люблю...". Поэт был очень "задирист" не только в своей жизни, не только в критике, но и в поэзии. Многие его стихотворения сразу, с первой строка начинаются отрицаниями: Нет, за тебя молиться я не мог... Нет, никогда печальной тайны... Нет, нет - наш путь иной... Нет, не тебе идти со мной... Нет, не рожден я биться лбом... Но первое стихотворение из "Борьбы" несет в себе другое отрицание: раньше речь шла о противопоставлении себя ("я") или узкого круга близких ("мы") чужому, враждебному миру; теперь - о борьбе в душе самого героя. Любовь захватывает героя, он в ужасе отпрядает от нее, шепчет заклинания, завораживает себя отказом, но ничего не получается из этих ритуальных клятв: поэт превосходно показывает диалектику чувства, властное вторжение созидательного начала любви, с которым не справиться никакими отрицаниями. Каждое последующее стихотворение цикла будет давать не только временное развертывание чувств и событий, по сравнению с предыдущим, но и обязательно вносить какую-то контрастность, противоположность: "развертывание" соединяет стихотворения, делает их и фабульно и тематически близкими, а контрастность отталкивает; тем самым будет постоянно поддерживаться напряженность развития, мерцающая переходность, одновременно сходство и отличие. Так, следующее стихотворение показывает дальнейшее заполонение героя любовным чувством, похожим на болезнь, но, в противовес первому, оно обращено уже не к душевному "я" героя, а к "ней", к виновнице, поэтому стихотворение становится заклинанием героини. Третье стихотворение еще дальше развивает сюжет (недаром в черновой рукописи подзаголовок цикла - "лирический роман"!): здесь уже звучит прямое, как бы реальное объяснение в любви, обращение на "вы". Интересно отметить, что Григорьев в своих поэмах и стихотворениях не любил называть героиню по имени, обычно это просто "она", "вы", "ты". Лишь изредка он использовал значительный литературный псевдоним, значительный не только по содержательному смыслу, но и по звучанию: так, Лавиния - не только героиня Жорж Санд, но и имя, вызывающее целую цепь звуковых ассоциаций: лава, лавина, вина... Сквозь все три первых стихотворения "Борьбы" героиня проходит как светлый, возвышенный образ: "тихая девочка", "воздушная гостья", "ангел", "ребенок чистый и прекрасный". Герой же, кроме его "безумия страсти", слабо определен, и только в одном из них, благодаря сравнению "Как недоступен рай для сатаны", он зачисляется в темный мир, к которому он еще прикован "цепями неразрывными". Эти цепи можно, конечно, трактовать, как автобиографический намек Григорьева на свою семейность, на юридическую несвободу, но значение их шире и глубже, о чем узнаем далее: Но если б я свободен даже был... Бог и тогда о наш путь разъединил. Так что дело не в цепях брака, а в том, что герой "веком развращен, сам внутренне развратен", отсюда такой контраст между "ангелом" и "сатаной". Пушкин, а позднее в более узкой сфере Кольцов и Фет создали замечательные картины гармоничной, высокой любви, того целостного и возвышенного состояния души, когда даже печаль оказывалась светлой. Лермонтов показал сложность и даже изломанность двух натур, которые противостоят друг другу без надежды на победу. Григорьеву ближе всего в этих ситуациях лермонтовская линия, но, в отличие от предшественника, наш поэт впервые, пожалуй, в русской литературе так подробно разработал тему о значимости, о великой ценности трагической любви, о счастье трагизма. Когда Белинский встретил у Григорьева строку о "безумном счастье страданья", то ему как просветителю она очень не понравилась своей противоречивостью, алогичностью; теперь мы бы сказали: своей "оксюморонностью" (оксюморон - контрастное столкновение противоположных смыслов: честный вор, сила слабости и т. п.). Между тем для поэта подобная оксюморонность становилась одним из глубинных признаков его художественного мировоззрения и его творческого метода. Страдание для Григорьева чрезвычайно сложное и емкое понятие: это и боль, и болезнь, и интенсивность, и этическая высота, и признак настоящего человеческого чувства, и противовес бездушию, тупому безразличию, серенькому, бесстрастному существованию. Это тот противовес, который стал типичным для русской поэзии XIX века. У Пушкина: Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать... Отсюда возникает и григорьевское понятие "счастья муки", счастья страдания": это трагическое счастье возвышенного чувства, насыщенной страстями жизни. Следует подчеркнуть еще один аспект, обычно не учитываемый, рыцарственное благородство героя: он как бы берет на себя, на свои плечи всю тяжесть, всю боль страдания, благородно стремясь освободить от них героиню. Но герой - сын больного века, он далеко не последователен в идеалах и поступках, он вполне может "сорваться". В стихотворении "Опять, как бывало, бессонная ночь..." героиня освещается по-иному: оказывается, "тихая девочка" с ангельской улыбкой может быть "насмешливо-зла и досады полна". А раз так, то она опускается с недосягаемого пьедестала на грешную землю, она уже не ангел, а "Евы лукавая дочь", и, следовательно, ни к чему рыцарское самопожертвование, более уместна "лермонтовская" борьба: теперь она переносится вовне, в конфликтное столкновение с героиней. Чрезвычайно важным и сложным для Григорьева было понятие рока, впервые заявленное в цикле именно в стихотворении "Опять, как бывало, бессонная ночь...". Иногда рок употребляется поэтом в античном смысле, в смысле заранее предопределенной человеку судьбы, иногда (в том числе и дальше в цикле) - и смысле фольклорной фатальной "доли", по чаще всего в своеобразной григорьевской интерпретации этого понятия, куда включалась и судьба, и доля, но при этом человек не ждал покорно и немо "божеских" предначертаний, а бросался сам на испытание рока, чтобы скорее узнать, что ему уготовано, или, что еще интереснее, слал судьбе гордый вызов, хотел в борьбе помериться с нею: И думал я, что ту печать Ты сохранишь среди борьбы, Что против света и судьбы Ты в силах голову поднять, ("Нет, не тебе идти со мной...") Но высоко поднявши чело, на вражду, на борьбу, Видно, звать ей надменно всегда лиходейку-судьбу. ("Старые песни, старые сказки") "Роковой приговор" в "Борьбе" столь же многозначен: это как будто бы и разрешение с высоты Олимпа - судеб героя и героини, и в то же время провоцирование их задора, активности. Пафос борьбы, где нет заранее предсказуемого результата, снимает фатальность, однозначную предрешенность, придает стиху энергию, надежду, перспективу, обращает стихотворение в будущее. Этим свойством поэзия Григорьева заметно отличается от фетовского стремления "закруглить" стихотворение, ограничить его волшебным мигом. В раннем творчестве Григорьева подобный романтический "миг" тоже играл существенную роль. Правда, иногда он расширялся до значительно более крупного масштаба, чуть ли не до вечности, но при этом принципиально подчеркивалась его вневременная сущность: Чтобы вечного шума значенье Разумея в таинственном сне, Мы хоть раз испытали забвенье О прошедшем и будущем дне. ("К Лавинии") Недаром тогда у Григорьева возникал идеал покоя, своеобразного "истощения" всех душевных сил. Впрочем, поэт тут же "взрывался" борьбой, интенсивностью переживания и свысока третировал это "истощенье жалкое покоя"; замкнутый временной круг, "коловратность бессмысленного дня" становились чужими и даже враждебными (см. "Город", "Великолепный град! Пускай тебя иной..."). В поэзии Григорьева пятидесятых годов, особенно в цикле "Борьба", вообще не найти "уютных" идеалов, не найти замкнутого временного "мига". Поэт не может существовать без "прошедшего и будущего дня", особенно без будущего, его постоянно тянет узнать свою "судьбу", он никак не может отказаться от надежды. Пройдет еще немного времени, и под влиянием некрасовской реалистической поэзии Григорьев создаст поэму "Вверх по Волге", включающую в себя широкие диапазоны времени. На фоне предшествующих стихотворений очень контрастно выглядит "Доброй ночи!.. Пора!..", первое "идеальное", гармоническое стихотворение цикла. Оба персонажа - чисты и благородны, оба, видимо, любят друг друга, ибо описывается их прощание на утренней заре (т. е., очевидно, после ночного свидании?). Здесь не только наблюдается идеализированный отход от реального жизненного "романа" Григорьева, но и очень вольная интерпретация подлинника - ведь стихотворение является переводом соответствующего стихотворения Мицкевича. Григорьев мог быть хорошим и относительно точным переводчиком, но если в его творческих интересах было важно "свольничать", то он свободно переставлял акценты, изменял ситуацию, изменял ритм. Все поребивы ритма - собственное изобретение Григорьева. Если в нервом стихотворении цикла частые смены ритма соответствуют очень неспокойному характеру текста, то в седьмом они резко контрастируют с идеально-гармоническим содержанием: на самом деле здесь аритмия как бы глубинно предвещает кульминационную лихорадку последующих стихотворений, подобно тому, как в симфониях Шостаковича происходит вторжение тревожных диссонансов в идиллическую мелодию, вторжение, обещающее бури н катастрофы... И особенно хаотичным но ритму (да и по содержанию) окажется кульминационное четырнадцатое стихотворение цикла - "Цыганская венгерка". Блок назвал это и предшествующее ему стихотворение ("О, говори хоть ты со мной...") "единственными в своем роде перлами русской лирики" по их приближению к стихии народной поэзии. Песенная, "гитарная", романсная стихия тринадцатого стихотворения обязывает к плавности ритма, и болезненность, лихорадочность чувства внешне как бы затухает, но о ней постоянно напоминают "мучительные" эпитеты, а подспудно она еще усиливается частым перемеженном персонажей, ибо в каждом четверостишии (куплете) песни из трех персонажей действуют лишь двое: в первом - "я" н гитара, во втором звезда и "я", в третьем и четвертом то же, но в обратном соотношении, "я" и звезда, в пятом - "я" и гитара, н шестом - гитара и звезда, и седьмом, замыкающем,- опять "я" и гитара. А в следующем стихотворении, в "Цыганской венгерке", происходит резкое раздвоение героя. Двойственность подчеркивается с самой первой строки: "Две гитары, зазвенев..." Что это определение цыганского оркестра-аккомпанемента? Или два голоса? Скорее именно последнее. Раздвоенность далее будет сказываться на самых разных уровнях: "горькое веселье", "слиянье грусти злой с сладострастьем баядерки" и т. д., в провалах, вспышках и опять провалах надежды, в контрасте обреченности, скованности из-за свершившегося обручения "се" с другим - и невозможности с этим примириться. Наконец, раздвоенность героя проявляется в его - почти одновременном - ведении голосов двумя совершенно разными стилями: интеллигентски-литературным и разговорно-народным, сближающимся незаметно и с цыганским хоровым пением. Народное просторечье могуче и разрывно вторгается в литературный стиль, разливается на многие куплеты и придаст стихотворению совершенно новый вид, не известный ранее русской литературе. (Следует отметить, что стилистическая и лексическая смелость была всегда присуща Григорьеву: например, в его стихотворениях сороковых годов часты сравнения петербургских белых ночей с "язвой гнойной".) Кажется, что нет предела его стилевому размаху, и народная речь, как и интеллигентская, оказывается у него удивительно многопластной, от строк фольклорной песни до грубоватых ругательств. Резкие смены настроений и стилей хорошо сочетаются с ритмическими перебоям, со сменой стопности и даже со сменой размеров (и хорей вторгается анапест). Вся сложность контрастов и зигзагов, растянутая к тому же на довольно большом (почти поэмном) пространстве стихотворения, конечно, оказывалось мало пригодной для фольклорного бытования и исполнения. И недаром все последующие певцы произвольно сокращали текст Григорьева, вынося за скобки не только сюжетные повороты, но и стилевую чересполосицу, сохраняя более целостно накал чувства, "цыганскую" неистовость. В этом, может быть, вообще заключалась глубинная специфика "цыганщины" и русской культуре и литературе послепушкинского времени: и душном мире, где человек опутан цепями "среды", где он жестоко расщеплен на разные сферы существования, цыганский хор на какой-то романтический миг создавал иллюзию яркого, единого бытия с высокими и сильными страстями. Как говорил один из персонажей григорьевской поэмы "Встреча" (1846): ...хандра За мною но пятам бежала, Гнала, бывало, со двора И цыганский табор, и степь родную... А так как дисгармоничный строй незримо окружал этот праздничный мирок, то он еще больше усугублял притягательную силу волшебного замкнутого круга (который, увы, уж очень был далек от широкой степи!). Это было замечательно обрисовано и Островским ("Бесприданница"), и Лесковым ("Очарованный странник"), и Толстым ("Живой труп"). И сокращенная "Цыганская венгерка" тоже создавала такой волшебный мир . Но полный текст стихотворения имеет другие функции, он слишком личностей, слишком связан с "лирическим романом", со всем циклом "Борьба". А последние стихотворения цикла демонстрируют спад напряжения, развязку; после приподнятого крещендо "Цыганской венгерки" они, при всей силе передаваемого чувства, как-то истощенно ослаблены, как бы произносятся полушепотом. Заключительное стихотворение "О, если правда то, что помыслов заветных..." не только повторяет, не только синтезирует многие и многие темы предшествующих перипетий, но и содержит неожиданное завершение: казалось бы, в безнадежной, мрачной ситуации цикл должен "закруглиться", безвыходно замкнуться, но поэт, подытоживая прошлое, с теплой надеждой мечтает о душевной связи с героиней, ему так хочется верить, ...что светишь ты из-за туманной дали Звездой таинственною мне! Цикл демонстрирует не только борьбу, но и тесное сплетение традиционной троицы - веры, надежды, любви. Герой мучительно тянется к идеалу, жизнь бросает его с высот на землю, но он снова верит, надеется и любит... В этом отношении цикл "Борьба" может быть рассмотрен как большой метафорический аналог к жизни самого поэта, находившегося в постоянном метании между идеалами и грешной землею. Ни один другой цикл Григорьева не содержит такого заряда "исторической" динамики, т. е. "векторного" потопа времени от прошлого через настоящее в будущее. Другие же циклы дают лишь тематический или пространственный разброс, наподобие циклов таких поэтических соратников Григорьева, как Фет, А. Майков, А. Толстой, К. Павлова. Даже очень близкий к "Борьбе" григорьевский цикл "Титании", также навеянный любовью поэта к Л. Я. Визард, не содержит никакого "романа", никакой последовательности событий: он построен скорее именно на "круговом", мифологически завораживающем принципе: сплошные повторы тем, сплошные анафоры (единоначатия), четкое ритмическое чередование. Лишь в одном месте прорвалась наружу отчаянная ревность героя, и поэт отважился сделать его соперника господином с ослиной головою (используя шекспировский образ), да заключительное, итоговое стихотворение сильно напоминает восемнадцатое стихотворение "борьбы". Хронологическая развертка "Борьбы" отражает несомненное влияние на Григорьева реалистической повести и романа. Опыт многовековой истории поэзии показывает, что расцвет лирики наблюдается в эпохи, стимулирующие остроту и глубину душевных переживаний. К эпохи мрачные, реакционные, неподвижные эта интенсивность проявляется, главным образом, в уходе в душевные глубины, в самоанализе, в рефлексии - такова русская поэзия сороковых годов вообще и Григорьева в частности. Бурные же, переломные эпохи расковывают личность, создается повышенный динамизм развития, временных сдвигов, напряженных связей человека с меняющимся миром и т. д. И после 1855 года на поэзию Григорьева, наряду с субъективными факторами, влияли и общая атмосфера, и реалистическая проза, и реалистическая поэзия. А в последние годы творческой деятельности Григорьева-поэта на него несомненное влияние оказал Некрасов - и не столько лирикой, сколько поэмами. Некрасов развивал историзм Пушкина и Лермонтова, он великолепно вписывал своих героев в историческую атмосферу эпохи, а в поэмах впервые в русской литературе показал сложную диалектическую соотнесенность времен. Так, в неоконченной поэме (иногда ее называют стихотворением) "На Волге" (1800) Некрасов стал радикальным новатором, описывая два времени одного героя, постоянно чередующихся, перебивающих друг друга (такое смешение и неребивание двух времен одного героя станет характерной чертой литературы XX века). Григорьев явно под воздействием Некрасова создал поэму "Вверх по Волге" (1862), которую он воспринимал как четвертую часть "Одиссеи о последнем романтике" (первая - цикл "Борьба", вторая - рассказ "Великий трагик", третья - поэма " Venezia la bella"). Идя за Некрасовым в заглавии и теме, а также в приеме перебива времени, Григорьев отличается от предшественника самой сущностью понимания этих времен и смысла их соотнесенности. Некрасов вписывает личные времена героя в исторический поток, в историю России, в историю народа. И так как для него история прогрессивна, то даже пессимистический вывод в конце поэмы о печальном уделе современных бурлаков не окрашивает пессимистическим светом все произведение: наоборот, все оно пронизано нравственным отрицанием рабства, нравственной несовместимостью рабства и вольной реки: на этом основании возникает горячая вера в его уничтожение. А. Григорьев был чужд представлению о ходе истории по пути прогресса (недаром он так не любил гегельянскую историческую схему восходящих этапов), для него куда более значительны и по-славянофильски "неподвижные" нравственные, эстетические, материальные фундаменты человеческого бытия: национальный характер, традиции, быт, заповеди. Но страстная живая натура поэта и явное воздействие на его мышление реалистического метода русской литературы отдаляли его от близких, в общем, славянофилов в сторону Достоевского, Островского, Некрасова. И как бы ни было сильно романтическое влияние, Григорьев динамическим развитием своих поэтических характеров, тянущим за собой разные срезы времени и отражающим суть этих времен, создавал историческую основу. Образы и ситуации в его лирике и в поэмах носят в самом деле "цвет и запах эпохи", передают драматические судьбы русского интеллигента середины XIX века. А в поэме "Вверх по Волге" Григорьев осветил тему о губительной сущности буржуазно-мещанского бытия и сознания, которое засасывает в свою бездуховную трясину, подрезает крылья, а главное - уничтожает самые дорогие для поэта ценности национального, если не всемирного, масштаба. И хотя сюжетно и более глубоко - идеологически поэма не замкнута в себе, она не дает основания истолковывать ее в оптимистическом, некрасовском духе: слишком уж болезненно растерзана душа героя... Но в целом поэзия Григорьева, благодаря высокому нравственному и эстетическому идеалу, в свете которого она создавалась, представляет замечательный образец непрерывной и небезуспешной борьбы за духовную прочность и духовную самостоятельность, эа непреходящие ценности жизни, за возвышенность и достоинство человеческой души. И если в самых неблагоприятных социальных, моральных, материальных обстоятельствах герой григорьевской поэзии (вместе с самим автором) смог сохранить и упрочить свои идеалы, как бы трагично ни складывалась его житейская судьба, это придаст его творчеству не только познавательную, но и воспитательную силу. Ведь завершается поэтическая деятельность Григорьева стихотворением "И все же ты, далекий призрак мой...", удивительным не только по глубине чувства (через всю жизнь, через все перипетии, скитания, тюрьмы прошла незатухающая любовь к Л. Я. Визард!), но и по неизменной верности основным принципам и идеалам. А душевная широта, тонкость психологического анализа, высокая гуманитарная культура и человеческая простота Григорьева-поэта создали успех его творчеству в последующих поколениях стихотворцев, в первую очередь - поэтов романтического плана. Особенно значительно воздействие поэзии Григорьева на творчество Л. Блока, в стихах которого, в его критических и литературоведческих статьях, в дневниковых записях постоянно присутствует память о Григорьеве. 2. А. БЛОК ОБ АПОЛЛОНЕ ГРИГОРЬЕВЕ О судьбе культуры русской и месте в ней А. Григорьева А. Блок писал в статье "Судьба Аполлона Григорьева". Русская культура со смерти Пушкина была в загоне, что действительное внимание к ней пробудилось лишь в конце прошлого столетия, при первых лучах нового русского возрождения. Если в XIX столетии все внимание было обращено в одну сторону - на русскую общественность и государственность, - то лишь в XX веке положено начало пониманию русского зодчества, русской живописи, русской философии, русской музыки и русской поэзии, У нас еще не было времени дойти до таких сложных явлений нашей жизни, как явление Аполлона Григорьева. Зато теперь на очереди - явления более сложные, соединения, труднее разложимые, люди, личная судьба которых связана не с одними "славными постами", но и с "подземным ходом гад" и "прозябаньем дольней лозы". В судьбе Григорьева, сколь она ни "человечна" (в дурном смысле слова), все-таки вздрагивают отсветы Мировой Души; душа Григорьева связана с "глубинами" , хоть и не столь прочно и не столь очевидно, как душа Достоевского и душа Владимира Соловьева5. Убитый Грибоедов, убитый Пушкин. Точно знак того, что рано еще было тогда воздвигать здание, фундамент которого был заложен и сразу же засыпан, запорошен мусором. Грибоедов и Пушкин заложили твердое основание зданию истинного просвещения. Они погибли. На смену явилось шумное поколение 40-х годов во главе с В. Белинским, "белым генералом русской интеллигенции". Наследие Грибоедова и Пушкина, Державина и Гоголя было опечатано; Россия "петровская" и "допетровская" помечена известным штемпелем. Белинский, служака исправный, торопливо клеймил своим штемпелем все, что являлось на свет божий. Весьма торопливо был припечатан и Аполлон Григорьев, юношеский голос которого прозвучал впервые через шесть лет после смерти Пушкина. Аполлон Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале; его идеал был - богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности. А. Григорьев стоял особняком. Оба московские кружки западников и славянофилов одинаково отталкивали его. Григорьев не попал в "интеллигентский лубок, где Белинский занимает место "белого генерала". Поглумились над Григорьевым в свое время и Добролюбов, и Чернышевский. Тургенев Ап. Григорьева называл: "огромный склад сведений и мыслей без всякого регулятора". Как при жизни, так и после смерти Григорьева о глубоких и серьезных его мыслях рассуждали всё больше с точки зрения "славянофильства" и "западничества", "консерватизма" и "либерализма", "правости" и "левости". В двух соснах и блуждали до конца века; а как эти мерила к Григорьеву неприложимы, понимание его и не подвигалось вперед. В конце столетия, когда обозначилось новое веяние, Григорьева стали помаленьку распечатывать. Долгое время почтенные критики находили его "странным". Он ...странен? - А не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож! Григорьева обвиняли в том, что он "во многом повторял приемы Гёте и Шеллинга, Карлейля и Эмерсона, Ренана и Гюго, предвосхитил Бергсона и Зиммеля, и потому в русской критике первенство его вне всякого сомнения". Судьба Григорьева сложна и потому - соблазнительна. В интеллигентский лубок он никогда не попадет; слишком своеобычен; в жизни его трудно выискать черты интеллигентских "житий"; "пострадал" он, но не от "правительства" (невзирая на все свое свободолюбие), а от себя самого; за границу бегал - тоже по собственной воле; терпел голод и лишения, но не за "идеи"; был и критиком", но при этом сам обладал даром художественного творчества и понимания. Вместе с тем Григорьеву трудно попасть и в настоящие "святцы" русской словесности: был он все-таки в высшей степени "человеком сороковых годов". Конечно, не "урожденный критик", как полагал друг его Н. Н. Страхов; не "критик", потому что художник; однако строчил он пространно, языком небрежным и громоздким... Чем сильнее лирический поэт, тем полнее судьба его отражается в стихах. Стихи Григорьева отражают судьбу его с такой полнотой, что все главные полосы его жизни отпечатлелись в них ярко и смело. Даже большинство переводов Григорьева созвучно с его душою, несмотря на то, что он часто работал по заказу. Детство и юность человека являют нам тот божественный план, по которому он создан; показывают, как был человек "задуман". Судьба Григорьева повернулась не так, как могла бы повернуться, - это бывает часто; но о том, что задуман был Григорьев высоко, свидетельствует и жизнь, не очень обычная, а еще более, пожалуй, чем жизнь, - стихи. ЗАКЛЮЧЕНИЕ А в массовом, народном сознании сохранились два знаменитых стихотворения Григорьева из цикла "Борьба": "О, говори хоть ты со мной..." и "Цыганская венгерка" ("Две гитары, зазвенев..."). Они стали воистину народными песнями, воистину фольклорными. Мы не знаем авторов их замечательных мелодии (существует легенда, что музыка была сочинена руководителем цыганского хора Иваном Васильевым при участии самого Григорьева), да и далеко не все певцы-исполнители, любители или профессионалы, знают, что слова этих песен созданы Григорьевым. Тексты их подвергались сокращениям, перестановкам или даже контаминации - сращению двух песен в одну. Кто типичная судьба стихотворений, ставших народным достоянием. Постепенно возвращаются и отечественную культуру и произведения других жанров, и которых творил Григорьев: его литературная и театральная критика, его воспоминания, его повести и рассказы. Самобытный талант Григорьева не меркнет даже в ярком свете наших великих художественных звезд. ЛИТЕРАТУРА 1. Русские поэты второй половины XIX века. - М.: Олимп; ООО "Фирма "Издательство АСТ", 1999. 2. Григорьев А.А. Сочинения. В 2-х т. Т.1. Стихотворения; поэмы; проза / Вступ. статья Б.Егорова, - М.: Худож. лит., 1990. 3. Белинский В.Г. Стихотворения Аполлона Григорьева // Полн. сор. соч. М.., 1955. Т.9. 4. Вольная русская поэзия XVIII- XIX веков. Сборник: Т.1./ Вступит. статья, сост. С.А. Рейсера.- Л.:Сов. писатель, 1988. 5. Блок А.А. Судьба Аполлона Григорьева // Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1962. Т.5. 1 2 Работа на этой странице представлена для Вашего ознакомления в текстовом (сокращенном) виде. Для того, чтобы получить полностью оформленную работу в формате Word, со всеми сносками, таблицами, рисунками, графиками, приложениями и т.д., достаточно просто её СКАЧАТЬ. |
|
| Все права на представленные на сайте материалы принадлежат refbank.ru. Перепечатка, копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено. |
|
 Банк готовых работ
Банк готовых работ



