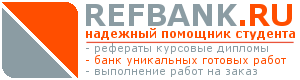
|
|
Зодчество, скульптура, монументальная и станковая живопись Владимиро-Суздальской Руси. XII – XIII вв.План Введение 3 1. ЗОДЧЕСТВО ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОИ РУСИ 6 2. СКУЛЬПТУРА ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ РУСИ 31 3. ЖИВОПИСЬ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ РУСИ 50 Вместо заключения. ТАТАРСКОЕ ИГО И СУДЬБЫ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОГО ИСКУССТВА 73 Список использованной литературы 75 Введение Вторым после Киевской Руси очагом русской государственности и русской культуры суждено было стать Верхнему Поволжью, Ростово-Суздальскому краю. Здесь сложилась могучая великорусская народность, сосредоточенные здесь народные силы оказались наиболее крепкими и стойкими. Именно в области Верхней Волги следует искать завязки тех основ и форм народной жизни, которые получили в дальнейшем господствующее значение. Освоение Залесья протекало, бесспорно, не так, как это представлялось в свое время В. О. Ключевскому. Это был гораздо более длительный и постепенный процесс, уходящий в глубину VIII-Х столетий. В XI-XII веках крохотные островки мерянской культуры уже почти терялись среди основной массы русского населения. Это население имело свои трудовые навыки, свой жизненный уклад. Оно занималось пашенным земледелием, скотоводством, охотой, бортничеством и рыболовством; оно вступало на путь торговли и ремесленного производства и полагало начало городам. Ему приходилось вести жестокую борьбу с природой, гораздо более жестокую, чем на степном юге. Дремучий лес наступал на поселенца со всех сторон; топи и болота на каждом шагу угрожали ему тысячами опасностей; суглинистые почвы и суровые зимы снижали и без того скудные результаты труда хлебопашца. В этих тяжелых хозяйственных и природных условиях, осложненных борьбой с татарами, складывался национальный характер великоросса. Великоросс сызмальства был приучен зорко следить за природой, не делать опрометчивых шагов, ясно отдавать себе отчет в возникающих на его жизненном пути препятствиях. Эти же условия развили в великороссе необычайную изворотливость ума, выносливость и мужественность, иначе говоря, такие качества, благодаря которым он вышел победителем из суровой жизненной борьбы. Культура Владимиро-Суздальской земли имела свои традиции, терявшиеся в седой древности. По мнению А. Е. Преснякова, владимирские князья XII века "строили свое политическое и владельческое здание не на зыбкой только что колонизующейся почве, а на основе окрепшего общественного быта, сложного по внутреннему строю"1. Залесье было давно связано узами торговли с далекими краями Руси и зарубежными странами. Волжский торговый путь мало уступал по своему значению пути "из варяг в греки". Это доказывают обилие монет и вещей, шедших к славянам с Востока в VIII-IX веках, арабские свидетельства о значительности русской торговли в болгарах, в Хозарском царстве, на Каспии и за Каспием, богатые находки западных монет Х-XI веков; об этом же говорит известие о сборе хозарами с вятичей дани "шлягами", т. е. западными шиллингами, а также раннее знакомство скандинавов с далеким северо-востоком Европы2. При таком положении вещей становится вполне понятным интерес киевских князей к Ростовской земле. Они стремились вовлечь ее в сферу своего политического влияния и присоединить к своим владениям. По сказаниям летописи, уже при Владимире Святославиче в Ростове княжил Борис, а в Муроме - Глеб. В руках Всеволода, сына Ярослава, оказались объединенными Ростов, Суздаль и Поволжье вместе с Переяславлем-Южным. Владимир Мономах нередко наезжает в Ростов, упорно защищая с сыновьями эту "волость отца своего" от захвата черниговским князем Олегом Святославичем. Он строит тут "в свое имя" город Владимир на Клязьме и посылает в Ростов своего тысяцкого варяга Георгия, дав ему "на руки" сына своего Юрия. При князе Юрии, прозванном позже Долгоруким, возвышается Суздаль, он закладывает в Ростово-Суздальской земле новые города (Коснятин, Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров, Москву, Звенигород), рядом с которыми продолжают развиваться более старые городские поселения (Суздаль, Ростов, Муром, Ярославль, Углич, Кострома, Галич-Мерский, Судиславль, Владимир). Так постепенно Залесье стало обстраиваться городами, со своими торговыми связями, со своим торгово-ремесленным населением. Последнее составляло в XII веке немалую силу. На союз с горожанами, "новыми мизинними людьми", опирался в своей политической борьбе "самовластен" Андрей Боголюбский, с ними считался и могучий Всеволод Большое Гнездо. И если города Владимиро-Суздальской земли были лишь редкими точками среди моря лесов и сельских поселений, все же им суждено было сыграть крупную роль в развитии культуры этого края, поскольку в них сосредоточивались те ремесленные силы, без которых невозможно было ни делать оружие, ни строить сколько-нибудь значительные сооружения. При всей своей оригинальности культура Ростово-Суздальского края была немалым обязана Киевской Руси. Киевские традиции начали просачиваться в Поволжье, вероятно, уже с XI века, и они во многом определили пути развития местной культуры. К местным традициям разнородных ремесел прививаются приемы ремесленников Поднепровья, в Суздале при Мономахе учатся делать по образцу южного строительный кирпич, и местные "древодели" перенимают от своих киевских учителей навыки каменного строительства. В строительстве городов и храмов постоянно сказывается привязанность к киевскому наследству. В Залесье заносится киевский культ Бориса и Глеба, которым посвящается церковь в селе Кидекше на реке Нерли, воздвигнутая Юрием Долгоруким. В топонимике города Владимира ясно звучат воспоминания о Киеве - таковы названия рек Ирпень, Почайна, Лыбедь, таково наименование мономахова города "Печерним" как бы в подражание киевскому Печерску. Из киевского форпоста Вышгорода вывозит Андрей Боголюбский знаменитую икону "Владимирской богоматери". В подражание киевским Золотым воротам он возводит в 1164 году ворота с таким же названием во Владимире. О киевской Софии должен был напоминать построенный им в 1158-1161 годах златоглавый Успенский собор, призванный, по мысли князя Андрея, наследовать права общерусского церковного центра, каким был собор киевского митрополита. Наконец, в Ростово-Суздальский край были занесены киевские литературные традиции, равно как и традиции киевского изобразительного искусства. Все это лишний раз доказывает, что культура Киевской Руси была прологом ко всей общерусской истории культуры и, в частности, к истории культуры Владимиро-Суздальского княжества. Однако в XII столетии, как мы видели выше, Киев постепенно терял свое политическое и культурное значение. Его роль перенимали другие феодальные центры. Юрий Долгорукий еще стремился владеть киевским престолом, ведя длительные кровопролитные войны на юге и мало уделяя внимания делам своей Ростово-Суздальской земли. Но уже его сын Андрей Боголюбский (1111-1174), крупнейший политический деятель той поры, перенес центр своих забот на север и направил все силы на то, чтобы укрепить здесь свою военно-феодальную власть и отсюда, из Владимира, диктовать свою волю другим русским князьям. Подвергнув соединенными силами русских князей разгрому Киев (1169), Андрей не покинул своей Владимирской земли и не поехал в Киев сесть на стол отца и деда. Он остался во Владимире, который был им возвышен в противовес Киеву, Ростову и Суздалю. Суровый и своенравный правитель, талантливый полководец, человек недюжинного ума и сильного характера, он проводил смелую и решительную политику усиления княжеской власти, безжалостно подавляя малейшую оппозицию. Опираясь на сочувствовавшие его объединительным стремлениям торгово-ремесленные круги Владимира и на преданную ему служилую массу "милостьников", получавших от него даже оружие и коня, и "дворян", привязанных к нему земельным пожалованием, Андрей вел жестокую борьбу со старой боярской знатью. "Передних мужей" своего отца и своих младших братьев он изгнал за пределы княжества, а боярин Кучкович был осужден им на казнь. За эту политику, направленную на подавление центробежных тенденции феодального мира, Андрей поплатился жизнью - он пал жертвой боярского заговора. Но ему удалось подчинить феодальную знать княжеской воле, удалось создать крепкое государственное ядро. Андрей Боголюбский, подобно Юрию Долгорукому, заботился о постройке новых городов (например, Боголюбова) и о расширении старых. Но особенно много сделал Андрей для Владимира, который он, по словам летописи, "сильно устроил". Расширяя и обстраивая этот город, Андрей наполнил его "купцами хитрыми, ремесленниками и рукодельниками всякими". Результаты такой политики не преминули сказаться: Владимир вскоре превзошел богатством и населенностью старые города своей области, что порождало протест ростовской и суздальской знати, постоянно роптавшей на Андрея. Во Владимир приезжали болгары, евреи, константинопольские греки, латиняне, выходцы с Северного Кавказа. При дворе Андрея служили половцы и черкесы, а его сын Георгий был женат на грузинской царице Тамаре. Византийские василевсы и императоры Священной Римской империи прекрасно понимали, какой грозной силой было возникшее на далеком северо-востоке Европы Владимиро-Суздальское княжество. Этим, можно думать, объясняется, в частности, прибытие на Русь в 1169 году папского посольства, которое, вероятно, направлялось к Андрею Боголюбскому. Ведя широкою общерусскую политику, Андрей, естественно, должен был стремиться к освобождению русской церкви из-под власти киевского митрополита, обычно являвшегося орудием в руках константинопольского патриарха. И действительно, Андрей Боголюбский поставил себе целью добиться церковной независимости от Киева - он хотел учредить в своем стольном городе самостоятельную митрополию, по его почину были предприняты шаги для канонизации первых ростовских епископов Леонтия и Исайи и был создан культ иконы "Владимирской богоматери"; все эти "святыни" были призваны возвеличить Владимирскую землю в церковно-религиозном отношении. Эти действия были продиктованы борьбой Андрея за самостоятельные пути политического и культурного развития Руси. С 1158 года при Успенском соборе начинается систематическое владимирское летописание. Его характерная черта - общерусский масштаб в оценке исторических событий. Власть владимирского князя трактуется здесь как общерусская власть, а город Владимир - как новый общерусский центр. Не менее сильно эта мысль о единстве русского народа выражена в одном замечательном памятнике владимирской литературы - в "Службе Покрову". Богоматерь выступает здесь не только как покровительница стольного Владимира и его князя, но и как заступница всех людей молодого города и "российской земли" в широком смысле; борьба с "тьмой разделения нашего", т. е. феодальной раздробленностью Руси, является лейтмотивом культа покрова. Так безымянный владимирский церковный писатель перекликается с глубоко ему созвучным по настроениям гениальным автором "Слова о полку Игореве". После смерти Андрея Боголюбского бояре вновь подняли голову. Притеснениями горожан они толкнули последних на путь борьбы, которая завершилась призванием во Владимир брата Андрея - Всеволода Большое Гнездо (1176-1212). Подобно Андрею Боголюбскому, Всеволод укреплял общерусский авторитет владимирской династии и реально добился его признания. Он также пренебрег Киевом и правил Южной Русью с берегов далекой Клязьмы, а великие князья Киева садились из его руки. И соседи Всеволода, князья рязанские, чувствовали на себе его тяжелую длань, ходили в его воле, по его указу посылали свои полки в походы с его полками. Он самовластно хозяйничал в Новгороде Великом, нарушал его старину, "казнил" его "мужей" без объявления вины. Он продолжал начатую еще при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском борьбу за выход к Волге, совершив ряд удачных походов против камских болгар и мордвы. Он заложил крепость Осовец и усилил Тверь. От одного имени его, по выражению северного летописца, трепетали все страны, по всей земле пронеслась слава о нем. Автор "Слова о полку Игореве" считал Всеволода всесильным: А ведь можешь ты Волгу Веслами всю раскропить, Дон шеломами Вычерпать! Благодаря такому исключительному положению Всеволод не случайно именуется у владимирского летописца "великим" и "господином"; так до тех пор лишь рабы и крестьяне называли своих хозяев. В летописи даже излагается стройная теория о том, что царь только земным естеством подобен человеку, "властью же сана яко бог". Эта теория была призвана окружить власть Всеволода, титуловавшего себя "великим князем", ореолом величия и блеска. Проведя свою юность в Константинополе, Всеволод должно быть вынес оттуда интерес к византийскому искусству. Недаром он пригласил для росписи Дмитриевского собора царьградского мастера. Но в своей строительной деятельности он опирался на школу русских зодчих, которую получил в наследство от Андрея. Эти зодчие сделались княжескими и епископскими людьми, планомерно и последовательно осуществлявшими грандиозные архитектурные замыслы великого князя и церкви. С их помощью был перестроен Успенский собор, возведен княжеский дворец с дворцовым Дмитриевским собором, создано последнее звено владимирских укреплений - каменные стены детинца, развернуто крупное монастырское строительство (придворный Рождественский монастырь с его строгим собором, княгинин Успенский монастырь, Вознесенский монастырь, расположенный вне городских стен). Новые монастыри основывались в Ростове, Суздале, Переяславле и Устюге Великом. Вместе с умножением монастырей оживилась книжная деятельность, росла грамотность; во время пожара 1185 года из башни Успенского собора спешно спасали, наряду с драгоценностями, сокровища соборной библиотеки. Так, постепенно, старая Ростово-Суздальская земля, еще в начале XII века не игравшая никакой политической роли, к концу этого столетия сделалась могущественным и культурным Владимирским княжеством, решительно возобладавшим над остальной Русью. После смерти Всеволода Большое Гнездо начинается быстрый процесс феодального дробления Владимиро-Суздальской земли. Подобно тому, как в "империи Рюриковичей" совершенно ясно обозначились на протяжении второй половины XI и в XII веке самостоятельные княжения (Новгородское, Ростово-Суздальское, Муромо-Рязанское, Смоленское, Киевское, Чернигово-Северское, Переяславское, Волынское, Галицкое, Полоцкое и Турово-Пинское), так и в Северо-Восточной Руси XIII столетия побеждают подавленные владимирскими "самовластцами" силы феодального дробления. В качестве центров образующихся мелких княжеств в XIII веке выдвигаются Тверь, Москва, Ярославль, Ростов, Углич, Юрьев, Белозерск. Эти отдельные независимые полугосударства-княжества нередко становились крупными культурными очагами. Они содействовали распространению владимирского культурного наследия и проникновению его в народную толщу, они дали толчок новому развитию местных художественных школ, нередко вносивших свой ценный вклад в общую сокровищницу русского искусства. Но феодальная раздробленность надолго задержала процесс собирания национальных сил. Она привела к взаимному отчуждению князей, к упадку в них гражданского чувства, она гасила мысль о единстве и цельности Русской земли. Самое слово это "Русская земля" все реже и реже появляется на страницах летописи удельных веков, что наглядно говорит об ослаблении политических связей между замкнутыми в себе уделами. 1. ЗОДЧЕСТВО ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОИ РУСИ История владимиро - суздальского зодчества делится на ряд этапов, связанных с княжениями Мономаха, Долгорукого, Боголюбского, Всеволода Ш и, наконец, его наследников. Это установившееся в науке членение полуторавекового историко-художественного развития не является чисто хронологической сеткой княжений, наложенной "сверху" на историю искусства. Оно соответствует ее действительным этапам, органически обусловленным последовательной исторической эволюцией русского Северо-Востока. Княжение Мономаха было периодом организации Суздальского княжества и борьбы за его самостоятельность. Юрий Долгорукий начинает укрепление авторитета суздальского княжеского дома, но считает, по традиции, Киев естественным центром притяжения феодальной Руси. Его дело продолжает Андрей Боголюбский, переносящий все внимание на Север и упорно ломающий сопротивление консервативных сил как внутри, так и вне княжества, противостоящих его попытке подчинить феодальную Русь власти владимирских князей. Напряжение социальных противоречий достигает предельной остроты, захватывая в свой круговорот и сферу искусства, которое оно наполняет новыми идеями. Княжение Всеволода завершает деятельность Боголюбского - авторитет владимирских князей становится общерусским, дух известной успокоенности и торжества проникает в искусство. При наследниках Всеволода вновь оживают силы феодального распада, ослабляющие могущество Владимирской земли и оказывающие свое влияние и на развитие искусства. Зодчие, работающие в этих различных исторических условиях, отражают в своем творчестве обусловленные ими идейные сдвиги. Кроме того, изменяются и самый характер и состав мастеров: при Мономахе, Юрии и Андрее они различны и по происхождению; при Андрее, Всеволоде и Всеволодовичах работают местные мастера, очень быстро совершенствующие свое искусство и не похожие по квалификации на своих предшественников. Таким образом, этапы развития владимиро-суздальского зодчества отчетливо совпадают с этапами исторической жизни Владимиро-Суздальской земли. Каменному строительству на Северо-Востоке, получившему свое начало на рубеже XI и XII веков при Владимире Мономахе, предшествовала, несомненно, длительная и во многом до сих пор неясная нам история местного деревянного зодчества. Первые христианские храмы были здесь, так же как и на Юге, деревянными. Летопись упоминает в 1096 году церковь Дмитриевского монастыря в Суздале и вероятно деревянную же церковь Спаса в Муроме.1 Согласно преданию, занесенному в летопись, в Ростове еще в XII столетии стояла "дивная и великая" деревянная церковь Богородицы, сгоревшая в пожар 1160 года и вызвавшая в связи с этим горестное восклицание летописца, что подобной "дивной" церкви "якое же не было ни будет"2. Эти беглые намеки источников свидетельствуют, что как в Поднепровье и Новгороде, так и на Северо-Востоке плотничное искусство достигло большого совершенства, чему способствовали лесные богатства края. Раскопки в Суздале, Владимире, Москве, Дмитрове, Пронске, Старой Рязани3 вскрывают, наряду с полуземляночными жилищами, многочисленные остатки срубных бревенчатых жилищ, уже в XI-XII веках приобретающих характерный облик среднерусской крестьянской избы. Еще в 70-х годах XII века, когда за владимирцами установилась слава "каменщиков", их называли в то же время и "древоделями"; конечно, эта их профессия была глубоко традиционной. К концу XI или самому началу XII столетия относится постройка первых каменных храмов: Успенского в Ростове и Богородице-Рождественского в Суздале. Ростов и Суздаль были старыми центрами области, являвшимися одновременно крупными очагами язычества (вплоть до XI в.). Здесь на площадях еще стояли идолы, а ряд суздальских урочищ сохранил до наших дней свои культовые языческие наименования. Христианство в то время не стало еще господствующей религией. Быстрый процесс феодализации Залесья, обостренный освоением этого края князьями киевской династии, ведет к ожесточенной классовой борьбе; восстания смердов, идущие под знаменем язычества, потрясают Поволжье. Первый ростовский епископ Леонтий, как можно думать, пал жертвой восстания в Ростове. Княжеская власть и церковь стремятся упрочить здесь свои позиции, усилить авторитет церковной организации. Одной из крупных мер в этом направлении является начало каменного церковного строительства. Киево-Печерский патерик рассказывает, что Владимир Мономах присутствовал в юные годы вместе с отцом на закладке Успенского собора Печерского монастыря, а затем будто бы получил "чудесное исцеление" болезни от печерских реликвий. Это якобы и определило любовь Мономаха к Печерскому храму. Выше были показаны действительные причины интереса князей и зодчих к Печерскому монастырю - это был крупнейший монастырь и центр литературной деятельности, рассадник высшей церковной иерархии, а Успенский собор был удачно найденным решением типа монастырского храма и собора удельной столицы. Патерик же сообщает, что Мономах построил в Ростове и Суздале соборы по образцу "Великой церкви" Печерского монастыря: "И во своемь княжении христолюбець Владимер, вземь меру божественыа тоа церкви печерьскыа, всемь подобиемь създа церковь в граде Ростове: в высоту, и в ширину, и в долготу. Но и письмя на хартии написавь, идеже кийждо праздник в коемь месте написан есть, сиа вся в чин и в подобие сотвори по образу великоа тоа церкви Богонаэнаменаныа. Сын же того Георгий князь, слыша от отца Владимера, еже о той церкви сотворися, и той во своемь княжении създа церковь во граде Суждале, в ту же меру"1. Таким образом, для построек на Северо-Востоке не только был сделан обмер Печерского собора, но была описана на пергаменте и схема его росписи. Упоминание здесь Георгия, т. е. Юрия Долгорукого, как основателя Суздальского собора, явилось данью его положению номинального князя северной волости Мономаха, который и был действительным строителем Суздальского собора. Позднее Лаврентьевская летопись, повествуя о перестройке собора Георгием III, упоминает, что "та бо церкы создана прадедом его [князя Георги я Всеволодовича] Володимером Мономахом и блаженым епископом Ефремом" 2. Если разведки в Ростове пока не обнаружили остатков Мономахова храма, то раскопки в Суздале открыли в основании существующего собора стены постройки Мономаха. Это был большой монументальный городской собор шестистолпного типа, с нарфиком в западной части, отделенным поперечной стеной с арочными проемами. Над нарфиком, по-видимому, располагались хоры. Фасады храма членились плоскими лопатками. В целом тип здания близко напоминал Печерский собор, послуживший для него образцом. Возможно, что собор, к постройке которого был причастен митрополит Ефрем, известный своим строительством в Переяславле-Русском, имел, подобно переяславскому собору Михаила, притворы. Самая техника постройки из плоского плиткообразного кирпича и естественного камня довольно точно повторяла традиционную киевскую кладку. Все эти отрывочные данные свидетельствуют, что Мономах перенес на Север киевскую архитектурную традицию; в Суздаль не только были доставлены обмеры Печерского собора; сюда, по-видимому, пришли и киевские зодчие, строители первых каменных храмов на Северо-Востоке. Это был важнейший факт в истории древнерусского зодчества - достижения киевской строительной культуры были переданы в новые отдаленные края. Но здесь они еще не получили какой-либо местной переработки, и собор Мономаха по существу был памятником южной архитектуры на Севере. Подобно тому как первые каменные храмы Киева Х - XI веков и пышные дворцы княжеско-дружинной знати сыграли огромную роль в утверждении феодального строя и усилении духовной власти церкви, так теперь в Суздале рядом с полуземляночными хижинами горожан поднялся невиданный по масштабам и богатству убранства каменный собор, подавлявший сознание недавних язычников и внушавший им слепую веру в могущество и "божественное" право господ. Значение этой первой каменной постройки было чрезвычайно велико. Она знакомила горожан Суздаля с каменной монументальной архитектурой, разительно отличавшейся от привычного им деревянного строительства, и прививала им новые представления о красоте архитектуры. С именем Мономаха связан и другой факт первостепенного значения - выдвижение, рядом со старыми городами, нового феодального центра - Владимира на Клязьме. До того безымянный торгово-ремесленный поселок на высоких берегах был укреплен Мономахом мощными земляными валами и получил в честь основателя крепости имя - Владимир1. Своим расположением на живописных холмах над рекой и широкой равниной пойм он близко напоминал Киев. Рядом с крепостью, к западу от нее, обосновался укрепленный княжеский двор, где Мономах поставил третью на Севере и первую во Владимире каменную церковь Спаса. Можно предполагать, что она была выстроена по тому типу придворного храма, который складывался в XII веке, т. е. была сравнительно небольшой четырехстолпной церковью. Расположение княжеского двора с его храмом по отношению к владимирской крепости отдаленно напоминало расположение пригородного Берестова по отношению к киевской "Горе". После смерти Мономаха в строительстве наступает длительный перерыв, продолжающийся до середины XII столетия. Большой перечень построек Юрия Долгорукого в ряде городов Северо-Востока встречается в летописи только под 1152 годом: "Тогда же Георгий князь в Суждале бе, и отвръзл ему бог разумней очи на церковное здание, и многи церкви поставиша по Суздалской стране, и церковь постави камену на Нерли, святых мученик Бориса и Глеба, и святаго Спаса в Суздале, и святаго Георгиа в Володимери камену же, и Переаславль град перевел от Клещениа [озера], и заложи велик град, и церковь камену в нем доспе святаго Спаса, и исполни ю книгами и мощми святых дивно, и Гергев град заложи и в нем церковь доспе камену святаго мученика Георгиа"2. Этот текст суммирует постройки Долгорукого, начатые в 1152 и законченные в 1157 году, когда была возведена последняя церковь Георгия во Владимире; Спасо-Преображенский собор в Переяславле остался незавершенным, и его отделку заканчивали уже мастера князя Андрея. Эти памятники были как бы монументальными вехами истории этих лет, когда Юрий Долгорукий закреплял свое господство на Севере, одновременно борясь за Киев. Церковь Бориса и Глеба в Кидекше, в 4-х километрах от Суздаля, была храмом пригородной укрепленной усадьбы, куда ушел Долгорукий, обособляясь от суздальского боярства. Церковь Георгия строилась во Владимире на новом княжеском дворе, основанном, по приказанию Юрия, рядом с двором Мономаха, и как бы знаменовала собой последующее перемещение столицы княжества во Владимир, осуществленное при Андрее. Два других храма были маленькими "соборами" вновь основанных Долгоруким крепостей - Юрьева и Переяславля. Все эти храмы имели очень ограниченное и определенное назначение: они предназначались для нужд двора князя или княжеского наместника и маленького гарнизона крепости. Это в известной мере определило их однообразие, скромность масштабов и простоту наружного облика. Из названных летописью храмов до нас дошли, в большей или меньшей сохранности, лишь церковь в Кидекше, у которой были переложены своды и разобраны верхние части апсид и восточных прясел боковых фасадов, и собор Спаса-Преображения в Переяславле-Залесском. Церковь Георгия во Владимире была разобрана в конце XVIII века и перестроена заново на старом основании; раскопки 1936 года подтвердили, что и этот храм почти тождественен первым двум. Наконец, церковь Георгия в Юрьеве-Польском была перестроена в 1230-1234 годах. Все эти постройки принадлежат к широко распространенному в середине XII века типу небольшого четырехстолпного крестовокупольного храма с одной главой, тремя полукруглыми апсидами с востока и хорами в западной трети. Конструктивная система здания находит ясное выражение в его наружных формах: столбам отвечают плоские фасадные лопатки, которые членят стену на три доли, завершенные закомарами; закомары соответствуют полуциркульным сводам перекрытия. Выше уровня хор толщина стен сокращается, образуя отлив1. Под ним идет поясок арочек с поребриком (церковь в Кидекше). При всей типичности подобных храмов постройки Юрия имеют и индивидуальные черты. Массив храма представляет собою почти куб, высота которого, однако, меньше его ширины. Алтарные апсиды, примыкающие с востока, очень тяжеловесны по своим пропорциям - это почти полуцилиндры, усиливающие грузность и приземистость здания. Важнейшим элементом композиции храма является массивный барабан главы, с шлемовидным, почти плоским куполом. Стены членятся симметрично на три широкие доли, лишенные какого-либо декоративного убранства и завершенные спокойными полукружиями закомар. Щелевидные, похожие на крепостные бойницы окна обнаруживают массивность стены; простые обрамления входов, с тремя прямоугольными, смыкающимися в арку уступами, похожи скорее на строгую византийскую полуциркульную нишу, чем на перспективный портал. Все эти черты сообщают постройкам Долгорукого выражение упрямой подавляющей мощи. Той же простотой и суровостью проникнут и интерьер храма, ясно расчлененный хорами, мощными крещатыми столбами и соответствующими им сильно выступающими настенными лопатками. В интерьере господствует центральное подкупольное пространство, к которому присоединяется пространство глубоких алтарных апсид, отделенных от храма лишь невысокой алтарной преградой. Свет, проникавший сквозь узкие щели окон, оставлял интерьер храма в постоянном полумраке. При Юрии храмы даже не были расписаны, и богослужение происходило среди белых стен. Сохранившаяся в фрагментах роспись Переяславского собора относится уже ко времени Андрея, который также украсил достроенный им храм отца цветным полом из желтых и зеленых майоликовых плиток. Росписи церкви в Кидекше также принадлежат позднейшей поре (вероятно, времени Всеволода). По-видимому, все эти храмы были непосредственно соединены с соседними зданиями княжеского двора, но характер этой связи остается пока неясным. Дверь на хоры в северной стене Переяславского собора, заложенная в позднейшее время, ясно указывает на их соединение переходом со смежными зданиями, как это мы увидим позже в Боголюбовском дворце. Но, по-видимому, здесь и эти жилые части комплекса и переход были деревянными, так как раскопки не обнаружили никаких каменных пристроек около собора. Тесная связь храма с дворцовым обиходом превращала его в личный храм владельца, в частности в усыпальницу его рода. Так, в церкви Бориса и Глеба в Кидекше были заранее сделаны аркосолии, которые вскоре и были заняты гробницами сына Юрия Бориса, его жены и дочери. Постройки Долгорукого отличаются от предшествующих храмов Мономаха и от современных им храмов других областей прекрасной техникой кладки из блоков "белого камня" - местного известняка. Камень клали почти насухо, заполняя промежуток между двумя его рядами обломками камня, залитыми связующим раствором (так называемая полубутовая кладка). Превосходно подогнанные друг к другу и тщательно вытесанные квадры камня образовали идеально ровную белокаменную гладь стены. Эта техника характерна для архитектуры Галичского княжества; в постройках Юрия имеются и некоторые декоративные детали, сходные с галичскими: аркатурный пояс с поребриком в Кидекше и Переяславле, перспективные порталы входов. Это свидетельствует о работе на строительстве Юрия пришлых мастеров. Вероятно, это были зодчие, строившие до 1152 года у галичских князей, с которыми Юрий находился в дружественных отношениях. Однако эти пришлые мастера были строго ограничены условиями княжеского заказа и местными вкусами, сложившимися на протяжении длительного развития русского зодчества. Архитектурный образ храмов Юрия предельно прост и как бы проникнут мощным и суровым духом своего времени, выразившимся в могучей красоте лаконичных форм, ясной конструктивной логике здания и величавой статичности его масс. Столь же характерно отношение этих храмов к окружающему ландшафту. В Переяславле и Юрьеве городской храм стоит не в центре, а с краю городской площади, он обращен одной стороной к валу, вдоль которого размещались жилища горожан; храм здесь не был виден из-за валов города, отграничивавших и городской ансамбль и храм от окружающего их пространства. Напротив, храмы на княжеских дворах в Кидекше и Владимире, поставленные на краю высокого берега и видные издалека, как бы подчеркивают идею господства храма над широким ландшафтом, столь ярко развитую в последующую эпоху. Собор Спаса-Преображения в Переяславле-Залесском. 1152 год. Строительство Андрея Боголюбского, как и строительство Долгорукого, охватывает сравнительно небольшой период с 1158 по 1165 год, совпадая по времени с порой наивысшего напряжения политической борьбы Боголюбского. Андрей круче и решительнее продолжал начатое отцом подчинение местных феодальных владетелей и других русских княжеств власти владимирских князей; в этом он находил поддержку у передовых общественных слоев города и преданного ему дворянства. В то же время сплачивались силы противодействия в лице соседних княжеских домов, местной знати, и, наконец, византийской духовной власти, заинтересованной не в объединении, но в распылении русских сил, в укреплении расшатанной византийской гегемонии. Поэтому вопрос о церковной самостоятельности Владимиро-Суздальского княжества, а затем и всей Русской земли приобрел особую остроту. Владимирский князь и епископ Федор начали энергичную работу по пропаганде местных владимирских святынь и культов, упрочивавших религиозный авторитет Северо-Востока. Уже Юрий поставил свой двор в Кидекше, где якобы было "становище" "святого князя" Бориса; Андрей содействовал церковному прославлению ростовского епископа Леонтия, павшего жертвой ростовского восстания. Но особое развитие получило почитание богоматери. "Владимирская" икона делала культ богородицы фактически местным культом. Недаром большинство созданных Андреем храмов было посвящено богородичным праздникам, а местная духовная власть установила новый праздник - Покрова богородицы. Однако эта усиленная и разносторонняя работа церковников едва ли не в большей мере была направлена на разрешение внутренних идеологических задач. "Союз княжеской власти и горожан" требовал своего религиозного утверждения и подкрепления. Церковь была теперь призвана оправдать усилившуюся жестокую эксплуатацию, создать иллюзию полной гармонии интересов князя и его подданных, вступивших в борьбу с феодальным дроблением Руси. Культу богоматери придавались нарочито "демократические", "народные" черты; князь и его люди как бы "на равных правах" находились под защитой богородицы. Эта церковная пропаганда, умело использовавшая в своих целях также искусство, овладевала сознанием все более широких слоев народа. Особенно повысилось значение архитектуры, которая была призвана сказать свое веское слово в монументальном оформлении новой столицы - Владимира и княжеской резиденции - Боголюбовского замка в соответствии с широкими политическими притязаниями князя. Новые храмы должны были укрепить и владимирский культ богородицы. Обстройка Владимира заняла семь лет (1158-1164). Княжеский участок города, располагавшийся к западу от Мономаховой крепости, и низменный владимирский посадский "подол" к востоку от него Андрей опоясал мощными деревянно-земляными укреплениями. "Князь же Андрей бе город Володимерь силно устроил, к нему же ворота златая доспе, а другая серебром учини"1. Упомянутые в этом тексте Золотые и Серебряные ворота были белокаменными проездными башнями на противоположных концах города: Золотые вводили с запада в его княжескую часть, Серебряные располагались в самой вершине городского треугольника, выводя на восток, на дорогу к Боголюбову и Суздалю. Кроме этих каменных ворот, в западной части города было еще трое деревянных: Волжские ворота выводили на берег Клязьмы, а на север, к речке Лыбеди, выходили Иринины и Медные ворота. Валы Мономахова города были прорезаны западными - Торговыми и восточными - Ивановскими воротами. Через них проходила главная продольная улица города, образовавшая как бы центральную ось городской планировки. В итоге этого строительства город Владимир приобрел то трехчленное деление своего плана, которое ясно прослеживается по сохранившимся и доныне остаткам древних валов. Из его старых башен уцелели лишь Золотые ворота (1164) - драгоценнейший памятник крепостной архитектуры XII века. Он перенес ряд ремонтов, значительно исказивших его первоначальный облик. Особенно большие изменения повлек за собой ремонт конца XVIII века, когда был переложен свод ворот и перестроена надвратная церковь. В это же время здание было осложнено фальшивыми угловыми башнями и жилыми встройками с юга и севера. Золотые ворота в своей древней части представляют собой огромный белокаменный массив, прорезанный с запада на восток сводчатым пролетом проезда. Так как он был чрезвычайно высок, то для установки воротных полотнищ внутри проезда была выложена пониженная до половины высоты арка. Массивные створы дубовых ворот были окованы снаружи вызолоченной медью (отсюда и название самого здания - Золотые ворота). Для обороны подступов к полотнам ворот в пролете проезда на середине его высоты был устроен деревянный настил, деливший проезд как бы на два этажа. Настил покоился на толстых поперечных брусьях, заложенных в квадратные гнезда в стенах проезда одновременно с их кладкой. Узкая лестница, скрытая в толще южной стены ворот, выводила воинов на этот боевой настил. Далее лестница вела на верхнюю боевую площадку ворот, огражденную зубцами бруствера. В центре ее стояла небольшая надвратная церковь Положения риз богоматери, завершенная, вероятно, шатровым, вызолоченным верхом2. С боков к Золотым воротам примыкали насыпи валов с рублеными стенами, а за ними шел ров, отрезавший подступы к воротам и крепости. Находившиеся на противоположном конце города белокаменные Серебряные ворота были, по всей вероятности, повторением Золотых. Это были крепостные башни, соединявшие чисто оборонительное назначение с ролью главных въездных ворот города. Поэтому в их архитектурном замысле сочетались элементы военно-инженерного порядка с чисто художественной идеей триумфальной арки, на декоративный эффект которой было обращено особое внимание зодчих. Валы и рубленые стены с башнями создавали как бы монументальную раму для широкого и живописного городского ансамбля. Его центром являлся большой Успенский собор, построенный князем Андреем на высоком юго-западном углу старого Мономахова города и при приближении к городу видный почти со всех сторон. Особенно эффектной была панорама города, открывавшаяся с юга, из-за реки Клязьмы, со стороны дороги из Муромо-Рязанской земли. Слева городские холмы образовали амфитеатрообразную впадину; по ее высокому краю располагались здания княжеских дворов Мономаха и Юрия с их храмами, прикрытые с запада мощной грядой валов. В центре возвышалось плато Мономахова города с великолепным городским собором. К востоку валы спускались по пологому скату посадской части города, сходясь у белокаменной башни Серебряных ворот. Столь же красивая панорама открывалась при взгляде на Владимир с востока, со стороны дороги от Боголюбова и Суздаля. Отсюда город полого поднимался в гору, ограниченный клином валов, расходившимся от Серебряных ворот; далее, на половине подъема, был виден вал Мономахова города с его рубленой стеной и проездной башней Ивановских ворот, а за ней, на линии, замыкавшей горизонт, господствовал над городом стройный силуэт Успенского собора. Красота древнего ансамбля Владимира свидетельствует, что исключительно живописные данные природного ландшафта и рельефа местности были с большим пониманием использованы андреевскими горододельцами; они умножили его художественный эффект средствами архитектуры. В этом своем виде Владимир отдаленно напоминал Киев, соперником которого выступала столица Андрея Боголюбского. Успенский собор (1158 - 1161) был не только центром городского ансамбля и главным храмом Северо-Восточной Руси. Он мыслился, в перспективе княжеской политики, и как общерусский церковный центр. Закладывая собор, князь Андрей снабдил его богатым имуществом; он дал церкви Богородицы "много именья, и свободы купленыя и с даньми, и села лепшая, и десятины в стадех своих, и торг десятый"1. Этим князь как бы подчеркивал общерусское значение нового храма, обеспеченного, подобно Десятинной церкви Владимира Святославича, огромными доходами. Повидимому, мысль о том, что князь Андрей является продолжателем дела основателя Киевской державы - князя Владимира, была распространенной идейно-политической доктриной того времени. Она, как будет сказано ниже, отразилась и в архитектурном творчестве третьей четверти XII века. Вопрос о первоначальных формах андреевского Успенского собора мало привлекал внимание исследователей, так как храм сильно пострадал во время большого городского пожара 1185 года и в 1185 - 1189 годах подвергся капитальной перестройке. Зодчие князя Всеволода обстроили храм с трех сторон широкими галереями и, разрушив старые алтарные апсиды, пристроили новую, более обширную алтарную часть. Таким образом, собор оказался как бы в гигантском футляре новых обстроек. Его наружные стены, прорезанные арочными пролетами, превратились фактически во внутренние столбы большого пятинефного всеволодова храма и были связаны арочными перемычками с внешними стенами последнего. Однако сохранившиеся части андреевского собора все же дают достаточное основание для его вероятной реконструкции. В своей основе это был обычный шестистолпный городской собор, следовавший канонической схеме Печерского храма, переданной на Север через строительство Владимира Мономаха в Суздале. Но, подобно тому как постройки Долгорукого воспроизвели схему маленького крестовокупольного храма с большим своеобразием, так и здесь зодчие князя Андрея внесли в интерпретацию старого "образца" много нового. Они придали плану и фасадам храма гармоничное членение, создав посредством тонко найденных пропорций впечатление особой стройности его масс и большого объема и высоты его внутреннего пространства. Сравнительно легкие крещатые столбы как бы без усилия несли своды храма и его большую главу, заливавшую светом своих двенадцати окон центральное пространство интерьера. В западной четверти он расчленялся хорами, откуда был прекрасно виден алтарь, отделенный от храма легкой и невысокой алтарной преградой. Внутри собор был богато украшен живописью, скульптурой и произведениями прикладного искусства. В пятах арок перекрытия были изваяны парные фигуры лежащих львов, являвшихся знаком принадлежности храма князю. В пятах арок хор находились резные карнизы, покрытые плоским, почти графическим растительным орнаментом. В 1161 году храм был расписан фресковой живописью; под хорами развертывалась монументальная композиция "Страшного суда". Пол собора был устлан майоликовыми цветными плитками, отражавшими лучи света и гармонировавшими своей желто-зеленой гаммой с фресковой росписью. Успенский собор Владимира должен был выдерживать сравнение с прославленным храмом Киева - Софийским собором - великолепием своего убранства, и князь, по словам летописца, богато украсил храм различными изделиями из золота и серебра. Он поставил трое окованных золоченой медью дверей; множество позолоченных и серебряных паникадил освещали храм; амвон из золота и серебра, богослужебные сосуды и рипиды, сверкавшие золотом, жемчугом и драгоценными камнями, три больших сиона из чистого золота, усыпанных драгоценностями, - все это вызвало у восхищенного современника сравнение нового храма с легендарным храмом Соломона1. Интерьер воздействовал на зрителя не только красотой своих архитектурных форм, но и строгой согласованностью всех видов изобразительного искусства. Часть интерьера Успенского собора во Владимире. 1158-1161 годы. Этот пышный интерьер не был изолированным и замкнутым в себе. Летописец рассказывает, как в храмовой праздник Успения богоматери стекались толпы народа на поклонение главной святыне храма - Владимирской иконе, которая в уборе из золота и драгоценных камней помещалась слева от царских врат алтарной преграды. Для прохождения процессий паломников открывались "златые врата" южного и северного порталов, и на протянутых между ними "двух вервях чудных", по сторонам среднего поперечного нефа собора, вывешивались драгоценные пелены и облачения из соборной ризницы. Этот зыбкий "коридор" колеблемых ветром цветных тканей выходил и наружу, простираясь до сеней владычного двора. Так внутреннее пространство храма связывалось с пространством соборной площади. Столь же далеким от суровой простоты храмов Долгорукого был и внешний облик храма Богоматери. Место простых плоских лопаток заняли сложные пилястры с полуколонкой, венчанной пышной лиственной капителью; скромный аркатурный поясок церкви в Кидекше превратился в богатый аркатурно-колончатый фриз с изящными клинчатыми консолями и "кубическими" капителями. Важнейшим же новшеством архитектурной декорации было введение в ее систему резного камня в виде фигурных изображений и масок - прием, чуждый древней киево-византийской традиции и характерный для искусства романского мира. Игра света и тени на изящно украшенных фасадах дополнялась полихромией наружной фресковой росписи колончатого пояса, в нишах которого помещались изображения стоящих фигур святых, павлинов и орнаментов, обрамленные позолоченными стволами колонок. Позолота вообще нашла широкое применение в фасадной декорации собора. Князь Андрей "верх [главу] бо златом устрой, и комары позолоти, и пояс златом устрой, каменьем усвети и столп позлати и изовну церкви, и по комаром же поткы [птицы] золоты и кубъкы и ветрила [флюгера] золотом устроена постави, и по всей церкви и по комаром около"1. Действительно, при реставрационных работах прошлого века были обнаружены следы оковки золоченой медью простенков между окнами барабана. Таким образом, сияющая белизна белого камня сочеталась с блеском золота и игрой красочной живописи на фасадах храма, закомары которого завершались прорезными, из золоченой меди, акротериями в виде птиц или; фиалов, подчеркивавшими легкость пропорций собора. Храм не был первоначально столь изолированно стоящим зданием, каким мы его видим теперь. Он входил как центральное по масштабам и значению здание в сложный ансамбль построек епископского двора, располагавшегося к северу и югу от собора. Каков был характер этого ансамбля, мы точно не знаем, но известны не принадлежащие собору фрагменты декоративных скульптур, украшавших здание двора. Возможно лишь с некоторой долей вероятности восстановить ведшие на хоры собора две лестничные башни, носившие в древности название "владычных сеней" (северная) и "терема" (южная). Они были, вероятно, подобны лестничным башням Боголюбовского дворца, но, в отличие от композиции последнего, они выступали, невидимому, по углам главного западного фасада собора, фланкируя его подобно башням крепостных ворот и напоминая о могучих "вежах" киевской Софии. Таким представляется первоначальный облик центральной постройки андреевских зодчих - владимирского Успенского собора. В его сложном многогранном образе были воплощены не только культовые идеи восхваления и пропаганды главной святыни Владимирской земли - иконы богоматери, но и большие государственные идеи - мысль о величии и нераздельной силе общерусской княжеской власти, к которой стремился Боголюбский, мысль о приоритете молодой северной столицы - Владимира. Все эти идеи не только отвечали личным интересам княжеской династии, но и отражали прогрессивные устремления широких слоев народа, страдавшего от усобиц и феодального распада Руси. В этой органической связи владимирского зодчества XII века с передовыми тенденциями общественного развития и заключается причина его непреходящего художественного значения. По-видимому, теми же чертами декоративного богатства и законченностью архитектурных форм характеризовалась белокаменная церковь Спаса, сменившая в 1164 году старую кирпичную церковь Мономахова двора во Владимире; при раскопках были найдены обломки майоликовых плиток полов этого храма, отличающихся исключительной красотой расцветки и нежностью тонов. Есть основания думать, что по своим изящным пропорциям церковь Спаса была близка церкви Покрова на Нерли (построенной в 1165 г.) и как бы подготовляла совершенство ее форм. Церковь Покрова на Нерли была первым на Руси храмом, посвященным новому богородичному празднику Покрова, установленному, помимо киево-византийской церковной власти, волей владимирского князя и его верного помощника епископа Федора. В культе Покрова нашла свое наиболее полное развитие идея небесного патроната над деятельностью владимирского князя и владимирских горожан. Владимирские церковники весьма искусно вплели в ткань церковных текстов и песнопений частые упоминания о значении владимирских "людей", мысли о единении "российской земли" и гибельности феодального "разделения" - дорогие для широких слоев народа и особенно горожан. Этими идеями, несомненно, глубоко прониклись и зодчие храма в честь праздника Покрова, воплотив их с глубокой силой искреннего чувства и внеся в архитектуру храма тончайшую одухотворенность и поэтичность. Церковь Покрова на Нерли принадлежит к обычному типу небольших четырех-столпных одноглавых храмов, получивших особое развитие еще в строительстве Юрия Долгорукого. Этим типологическим моментом и ограничивается сходство новой постройки с прошлым. Старая схема храма была творчески переосмыслена зодчими Андрея. Они придали плану легкую продолговатость, лишив храм характерной "кубической" массивности; алтарные апсиды, столь тяжело выступавшие в храмах Юрия, приобрели облегченные пропорции, сообщившие силуэту храма уравновешенность и стройность. Его вертикальные членения явно преобладают над горизонтальными, а завершающая здание глава, слегка поднятая на прямоугольном постаменте, получила по сравнению с могучим барабаном Переяславского собора стройные пропорции, отвечающие пропорциям основного объема. Строители церкви Покрова усилили членение стен пилястрами сложного сечения; этот прием помог им выявить изящество и стройность храма. Основной идее его вертикального устремления ввысь, к небу, зодчие подчинили все его внешние детали. Важнейшим элементом фасада церкви Покрова являются его широкие дробно профилированные пилястры с выступающими колонками; они образуют мощные пучки вертикалей, влекущие глаз кверху, причем у зрителя даже создается иллюзия легкого перспективного сокращения объема храма кверху. Тонкие полуколонки также членят поверхность алтарных апсид, из которых средняя несколько выше боковых. Тот же эффект создают узкие, щелевидные окна; дробная профилировка их откосов маскирует своими вертикалями ощущение толщи вскрытой проемом стены. В восточных делениях боковых фасадов стена почти совсем исчезает - ее верхняя часть занята окном и обломами пилястр по сторонам; это вполне сознательный прием зодчих, стремившихся ослабить ощущение материальной весомости стены. Не менее характерно отношение зодчих к колончатому поясу. В Успенском соборе последний создавал спокойную горизонталь, значение которой было усилено фресковой росписью, превращавшей пояс в широкую, резко подчеркнутую ленту, пересекавшую фасад. В церкви Покрова мастера нарушают связь пояса с уровнем хор, что сохраняет деление фасада на две почти равные зоны; изменяется и ритм элементов пояса - колонки ставятся ближе, арочки вытягиваются, принимая подковообразную форму. В силу этого глаз воспринимает в первую очередь не общую горизонталь пояса, но частые вертикали колонок, столь гармонирующие с линиями пилястр и окон. С этими архитектурными средствами выявления образа очень тонко согласована резная декорация храма. Кубическая капитель в поясе уступает место изящным резным капителям, клинчатая консоль заменяется фигурной. Рельефы в тимпанах закомар фасада размещаются так, что глаз не может прочесть за ними рядов камня. Игра света и тени скульптур присоединяется к светотени архитектурных вертикалей, оживляя поверхность стены и усиливая ее иллюзорность. Надо полагать, что в церкви Покрова не было наружной росписи и позолоты и что храм был, как и теперь, ослепительно белым; золоченой медью сверкало лишь первоначально шлемовидное, слегка вытянутое покрытие его главы. Теми же чертами характеризуется и интерьер храма. При его небольшой площади крещатые столбы могли бы создать чувство стесненности внутреннего пространства, какое испытывает входящий в суровые и сумрачные храмы Долгорукого. Однако зодчие избежали этого впечатления. Как и в Успенском соборе, они стремились достигнуть здесь эффекта значительной высоты пространства. Для этого они несколько опустили хоры, освободив верхнюю, хорошо освещенную полость интерьера. Сравнительно узкие пролеты арок между столбами и стеноп контрастировали с их вышиной, усиливая иллюзию высоты сводов. Это ощущение закреплялось обилием вертикальных линий в открытых внутрь храма апсидах. При этой легкости и вертикальной устремленности пространства в значительной мере скрадывалось впечатление его небольшой площади. Если храмы, сооруженные Юрием Долгоруким, с предельной ясностью выражают физическую силу в ее прямом и непосредственном материальном воплощении (недаром они были посвящены воителям - Борису и Глебу, Георгию), то архитектурный образ храма, посвященного Покрову богоматери, полон глубокой одухотворенности. Стремление ввысь определяет весь его замысел. Зодчие как бы ставят себе целью преодолеть материальность и тяжесть камня; свет и тень играют на фасадах, дробя и оживляя их поверхность; здание в целом кажется излучающим свет и тепло и пронизанным радостным, жизнеутверждающим чувством. Первоначально церковь Покрова включалась, подобно Успенскому собору, в общий архитектурный ансамбль монастыря. На южной стене храма сохранилась дверь, которая вела на хоры; здесь, у стены, раскопками прошлого века были открыты следы лестничной башни, соединявшейся с храмом переходом. Ее стены были, подобно храму, украшены резным камнем; из состава этого убранства сохранились найденные при раскопках изображения барсов и грифов, выполненные в очень плоской манере. Храм и монастырь возвышались над водной гладью Нерли и Клязьмы. И теперь церковь Покрова, отражающаяся в тихих водах Старицы, представляет собой один из прекраснейших памятников древнерусского зодчества. В древности это живописное сочетание архитектуры и природы было еще более выразительным. Здесь, около монастыря, останавливались суда, шедшие к Боголюбовскому замку князя Андрея, расположенному в километре к северу, на высоком берегу Клязьмы. Храм Покрова на Нерли был как бы его архитектурным преддверием. Вид на церковь Покрова богородицы на Нерли. 1165 год. Сказание о гибели князя Андрея, повествуя о его строительстве, сообщает, что князь "создал же бяшеть собе город камен именемь Боголюбыи, толь далече якоже Вышегород от Кыева, тако же и Богълюбый от Володимеря"1. Это сопоставление с Вышгородом - "городом княгини Ольги" - выделяет Боголюбов из числа других городов, подчеркивая его личный, княжеский характер: это был замок владимирского князя, построенный в 1158-1165 годах, одновременно со зданиями Владимира. От его укреплений сохранились лишь части земляных валов, окружавших Боголюбов с запада, севера и востока, а на южном склоне замкового плато, обращенном к реке, раскопками были обнаружены цоколи монументальной белокаменной башни2. Поблизости от нее, внутри замка, помещался княжеский дворец с придворным собором. От этого ансамбля на поверхности земли сохранилась лишь небольшая часть, состоящая из белокаменной двухэтажной лестничной башни и звена переходов, соединяющего башню с хорами собора. Самый собор разрушился в 1722 году и был заново построен на древнем основании; от храма XII века уцелела лишь часть северной стены, удержавшаяся вместе с сохранившимся переходом. Раскопки Боголюбовского дворца, произведенные в 1934-1938 годах, позволили восстановить первоначальный облик значительной части ансамбля3. Его центром был дворцовый храм Рождества богородицы. Князь Андрей украсил его многоценными иконами, драгоценными камнями и другими узорочьями, так что церковь казалась золотой и слепила глаза. Приходившие удивлялись богатству и разнообразию церковной утвари, сверкавшей золотом и эмалями, золотому, украшенному драгоценными камнями сиону, рипидам и разнообразным паникадилам. Золотом были окованы двери, порталы и сень алтаря. По словам летописца, церковь была "всею добродетелью церковьною исполнена, изьмечтана всею хытростью"1. Раскопки дворцового собора подтвердили это казавшееся преувеличенным описание. Храм был украшен прекрасной фресковой росписью; его полы были настланы толстыми плитами меди, запаянными оловом; косяки западного портала сохранили следы их оковки тонкими листами золоченой меди; обломки вырезанных из золоченой меди или тисненых украшений говорят о действительно широком применении "золота" во внутреннем и внешнем убранстве храма. На хорах пол был выстлан цветными майоликовыми плитками и имел сверкающую, почти зеркальную поверхность. Сюда, на хоры, по словам того же летописного рассказа, князь Андрей вводил приезжавших к нему послов и гостей, которые поражались великолепию церковного убранства. Отсюда был прекрасно виден и алтарь храма, отделенный сравнительно невысокой белокаменной преградой, за которой вздымался шатер богато украшенного надпредстольного кивория - сени. Собор XVIII века и лестничная башня XII века в Боголюбове. Столь же эффектной была архитектурная композиция интерьера. Обычные крещатые столбы были заменены здесь круглыми, сложенными из тесаного камня колоннами с аттическими базами и огромными вызолоченными лиственными капителями. Хоры были помещены сравнительно высоко, так что пространство храма походило на просторный и светлый торжественный зал, лишенный расчлененности, столь типичной для храмов Юрия, схеме которых следовал придворный собор. По внешним формам храм Рождества богородицы был близок Успенскому собору с его спокойным членением фасадов сложными пилястрами, широким ритмом аркатурно-колончатого пояса и той же системой размещения резных камней, образовавших немногосложные, но выразительные композиции. Алтарные апсиды оживлялись полуколоннами, по их карнизу шел колончатый фриз. Цоколь храма представлял благородный аттический профиль; полуколонны пилястр и косяков порталов опирались на мощные "рогатые" базы. Западный, окованный золоченой медью, портал выходил в притвор, являвшийся, по-видимому, открытым балдахином на двух круглых столбах2. Пышные хоры дворцового собора были лишь звеном в сложной анфиладе белокаменных переходов, которые примыкали к собору с севера и юга. Рассмотрим сначала их сохранившуюся часть у северной стены собора. К ней примыкает приподнятое на четырех арках небольшое помещение, освещенное маленькими оконцами и украшенное снаружи колончатым поясом. Эта пристройка была первоначально покрыта на два ската. К ней с севера примыкает квадратная лестничная башня. В нижнем этаже башни помещается освещенная четырьмя узкими окнами каменная винтовая лестница, выводящая в верхний этаж - сени. Они освещены прекрасным тройным окном, из которого открывается широкая картина заливных лугов с белеющим в их просторах храмом Покрова на Нерли. Фасады башни завершаются полуциркульными закомарами. Колончатый пояс на уровне пола второго этажа охватывает башню с трех сторон и связывает ее фасад с фасадом собора, а выше, и только на западном, главном фасаде башни, в гладь стены "врезан" второй ярус колончатого пояса, объединяющий фасад башни с фасадами примыкающих по сторонам переходов. Углы башни прикрыты колонками с лиственными капителями и "рогатыми" базами. На основании ряда данных можно утверждать, что первоначально лестничная башня завершалась стропильным четырехгранным шатром, покрытым, вероятно, листами вызолоченной меди. Самое наименование подобных башен "сенями" или, как в Успенском соборе, "теремом" свидетельствует, что они являются не столько частью храмового комплекса, сколько элементом связанного с храмом "податного" или "хоромного" дворцового ансамбля. Действительно, в северной стене верхней комнаты башни сохранилась заложенная дверь, выводившая на галерею дворцового перехода. Как показали раскопки, он примыкал к башне под углом и шел, несколько отклоняясь к востоку. Переход представлял собой в нижней части монументальную аркаду с пешеходной и проездной арками. Между ними, в продолговатом полом пилоне, помещалась комната для стражи дворца, открывавшаяся на восток дверью с резным архивольтом; западный же фасад пилона был замкнут слепой аркой, в которой, вероятно, было узкое, щелевидное окно. Второй этаж был занят галереей собственно перехода, устланного, как и хоры собора, майоликовой плиткой, покрытого двускатной кровлей и украшенного с обеих сторон колончатым поясом. В убранстве фасадов переходов были столь же обильно применены и роспись, которой были покрыты их арки и своды, и золоченая медь, одевавшая архитектурные детали, и, наконец, резной камень. Среди наружных скульптур, наряду с рельефами, находились и круглые статуи зверей. Северное крыло ансамбля занимал самый дворец, остатки которого были уничтожены в начале XIX века при постройке корпуса монастырских келий. Судя по найденным деталям, дворец был также белокаменным и характеризовался теми же архитектурными формами, что и остальные части комплекса. Он был, несомненно, двухэтажным; несомненно также, что, в отличие от собора, для его покрытий были характерны прямолинейные скатные кровли и шатровые вышки, привычные для деревянной жилой архитектуры. Остатки кивория в Боголюбове. Раскопки 1934 - 1938 годов. К югу от собора шло южное крыло переходов, со второй симметричной шатровой башней, почти вполне тождественное северным переходам. Это крыло галерей связывало дворец и собор с верхом крепостной башни замка, поднимавшейся над крутым обрывом к реке. Таким образом, Боголюбовский дворец был сложным комплексом ряда зданий, связанных между собой переходами, по которым князь мог, не ступая на землю, пройти из своих жилых палат на галлерей, к тройному окну башни, на хоры собора и, наконец, на замковую башню, господствовавшую над рекой и лугами пойм. Западным фасадом дворцовый ансамбль выходил на центральную площадь замка, вымощенную плитами белого камня и снабженную тесанными из камня водостоками. На площади, перед юго-западным углом храма, возвышалась изящная восьмиколонная, увенчанная шатром сень (киворий) над белокаменной чашей для освященной воды. Чаша была поднята на круглом трехступенном пьедестале; по краю нижней ступени сохранились прекрасные аттические базы с угловыми рогами. Восемь стройных утончающихся кверху колонн с лиственными капителями несли восьмигранник арок, СЛУЖИВШИЙ основанием восьмигранному шатру перекрытия. Киворий был, невидимому, последней постройкой Боголюбовского замка и может быть условно датирован временем около 1165 года1. Оценивая блестящий расцвет зодчества в княжение Андрея Боголюбского, старые исследователи искали его причин прежде всего в факторах внешних влияний и объясняли его приходом в Суздальскую Русь иноземных зодчих. Такова была, например, "болгарская" теория, основывавшаяся па совершенно недостоверных данных позднего жития Андрея Боголюбского о привозе для андреевского строительства белого камня из Волжской Болгарии, с чем связывалась и гипотеза о приходе оттуда же и зодчих. По другой теории, успехи владимирской архитектуры при Андрее были якобы обусловлены приездом мастеров из Западной Европы, чем и объяснялось наличие романских черт в памятниках 1158-1165 годов. Это преимущественно детали убранства фасадов: резной камень, перспективные порталы входов, сложные пилястры с полуколонной, увенчанной резной капителью, аркатурные колончатые пояса с особенно характерными в Успенском соборе "кубическими" капителями, строгие аттические профили цоколей и баз с их угловыми "листами" или "рогами". Все эти черты, встречаемые в зодчестве ряда стран Западной Европы, свидетельствуют о том, что строители князя Андрея были хорошо знакомы с техническими и художественными приемами романской архитектуры. Весьма вероятно, что это были зодчие из Галича, только что закончившие собор, созданный Ярославом Осмомыслом, однако не исключена возможность приезда мастеров и из более далеких краев. Использование зодчих из зарубежных стран весьма типично для истории средневековой архитектуры - само романское зодчество было плодом совместных усилий различных по национальности мастеров. И нет ничего удивительного, если в строительстве Андрея принимали участие мастера "от немец". Отмеченный летописью факт, что на строительство Андрея "приводе... бог из всех земль мастеры"2, отнюдь не говорит о том, что у Боголюбского не было иных возможностей осуществить свои грандиозные замыслы. Обращение к мастерам, знакомым с романским искусством, являлось своеобразной формой протеста против киево-византийской гегемонии в духовной жизни Руси; этим как бы подчеркивались необязательность греческого художественного канона и право Руси на свой независимый путь культурного и художественного развития. Выше были отмечены отдельные романские детали в архитектуре XII века Чернигова, Смоленска, свидетельствующие об интересе русских зодчих к приемам западного искусства. Как там, так и во Владимире эти черты выступают преимущественно во внешнем убранстве храма. Следовательно, значение романских элементов в архитектуре Владимира никоим образом нельзя преувеличивать. Во Владимире пришлые зодчие оказались в условиях очень твердых требований, поставленных перед ними, в атмосфере отстоявшихся художественных вкусов, которые ограничили их творческую свободу. Они работали вместе с владимирскими мастерами; им пришлось посмотреть в натуре многие указанные им "образцы" и весьма серьезно вникнуть в сущность поставленных перед ними Андреем Боголюбским задач. В этом смысле они разделили судьбу греческих мастеров Владимира и Ярослава, итальянцев в Москве XV - XVI веков, приезжих зодчих XVIII столетия: все эти пришельцы подчинялись силе русской культуры и неизменно говорили языком русского искусства. Как мы видели, андреевское строительство продолжало совершенствовать те типы храма, которые вырабатывались в Поднепровье в конце XI и в XII веке, наполнив, однако, эти старые "образцы" новым содержанием. При этом были найдены новые изысканные пропорции масс и членений и развита до высокого совершенства ясная и в то же время сложная декоративная система. В этой кипучей творческой работе зодчие с удивительной глубиной использовали весь художественный опыт предшествующей истории русского зодчества. Так, например, характерная двух- или однобашенность храмов восходит к лестничным башням Софии киевской, черниговского Спаса, новгородской Софии, сообщавшим торжественность и величавость образу собора. Но в то же время прямоугольная форма и масштаб лестничных башен, например Боголюбовского замка, именование их "сенями" или "теремом" указывают и на их связь с народной деревянной архитектурой. Таким образом, в творчество зодчих Андрея свободно включались и мотивы гражданского строительства. Возможно, что на этих же "образцах" древнего гражданского зодчества воспитался и вкус к резному убранству фасадов, которое, следовательно, не явилось в храмах Андрея неожиданным новшеством. Важнейшее достижение андреевских зодчих - широкая разработка больших ансамблей дворцового типа - также восходит в своих бытовых и художественных основах к композиции, которая сложилась в русском хоромном строительстве. Трехчленная схема народного жилья с ее чистой клетью, сенями и жилой избой в усложненной форме воспроизведена в каменном Боголюбовском дворце с его дворцовой жилой половиной, переходами и башней ("сенями") и храмом, хоры которого служили и для торжественных приемов гостей. Боголюбовский дворец удивительным образом уподобляется деревянным хоромам и по постепенности пристройки его отдельных частей, которые, подобно последовательным "прирубам" хоромного строения, сливаются в итоге в целостный и художественно ясный ансамбль. В строительстве Андрея сказывается и другая традиционная черта русского зодчества - глубокое чувство ландшафта, поразительное уменье слить в едином образе природу и архитектуру. Мы уже говорили о роли Успенского собора в ансамбле Владимира и окружающего его пейзажа. То же в полной мере относится и к постройкам Боголюбова; Покров на Нерли и замок с его дворцом не только объединены с окружающим их ландшафтом, но являются органической составной частью и более обширного пейзажа, в который включается широкая панорама с устьем двух рек. Все эти черты андреевского зодчества свидетельствуют о его преемственности от лучших традиций русской архитектуры XI - XII веков, а следовательно, и о том, что в большом коллективе "мастеров из всех земель", работавших над осуществлением грандиозных по тем временам строительных замыслов князя Андрея, ведущая роль принадлежала не пришельцам, а своим, владимирским зодчим. Открытые недавними исследованиями на камне Золотых ворот и на пьедестале боголюбовского кивория княжеские знаки говорят о том, что эти зодчие успели войти в состав княжих людей и названные памятники являются как бы их "подписными" произведениями. Оба эти памятника стоят в конце строительства Андрея и являются почти ровесниками Покрова на Нерли. Все постройки времени Андрея обязаны своим совершенством гению владимирских "каменщиков", достигших здесь вершины своего искусства. По свидетельству летописи, князь Андрей незадолго до своей гибели собирался направить владимирских зодчих в Киев, чтобы там - на великом дворе Ярослава - они создали прекрасный "золотой" храм "в память отечеству моему". Владимирские мастера оказались достойными киевского художественного наследия, они приумножили его и могли с гордостью отдать свой долг постройкой в Киеве мемориального храма Андрея Боголюбского. По сравнению с бурным временем княжения Андрея Боголюбского, полным обостренной военной, политической и идейной борьбы, завершившейся трагической гибелью самого князя, княжение Всеволода Ш (1176-1212) характеризуется большим спокойствием. Всеволод довершил дело Андрея, и авторитет владимирского князя не только получил общерусское признание, но учитывался как внушительный фактор и в общеевропейской политике. Изменилось и соотношение общественных сил внутри княжества. Возросший политический вес городского населения приводил к ряду конфликтов с княжеской властью. В 1177 году Всеволод столкнулся с восстанием горожан, городские ополчения осмелились не подчиниться приказу князя. Городской пожар 1185 года вызвал волнение в городе. В связи с этим Всеволод построил каменный пояс детинца, отрезавший княжеский и епископский дворы от беспокойного города, и перевел под его стены мятежный городской торг. Боярская знать испытывает могучие удары полков Всеволода. Киевский митрополит послушно ставит на владимирскую кафедру княжеских кандидатов, роль владимирской епископии возрастает. Незыблемость княжеской власти должна была быть подтверждена и прославлена в пышных и величавых зданиях. И строительная деятельность развивается Всеволодом и владимирским епископом с неменьшим размахом, нежели при Боголюбском; она по-прежнему сосредоточивается на украшении новыми храмами столицы княжества - Владимира. В 1185 - 1189 годах подвергается капитальной перестройке Успенский собор, сильно пострадавший во время страшного городского пожара. Почти одновременно строятся Дмитриевский собор и здания нового княжеского двора (1193-1197), а также собор придворного Рождественского монастыря (1192-1195). В 1194-1196 годах создаются укрепления детинца с каменной стеной и воротами, завершенными церковью Иоакима и Анны. В 1200-1201 годах супруга Всеволода, княгиня Мария, строит собор второго "княгинина" женского Успенского монастыря. Уже из этого спокойного и постепенного хода строительства ясно, что оно ведется своими зодчими, работающими почти непрерывно на протяжении свыше шестнадцати лет. Недаром летопись с гордостью отмечает, что в это время уже "не искали мастеров от немец", а брали их из рядов владимирских ремесленных людей епископа, Успенского собора и, конечно, княжеского двора. Среди перечисленных построек первое место бесспорно принадлежит Дмитриевскому собору, посвященному патрону Всеволода - Дмитрию Солунскому. Это подлинный шедевр зодчих Всеволода, в котором с наибольшей силой проявилось их архитектурное мастерство. Перечисляя в некрологе князя его дела, летописец пишет, что Всеволод "многы же церкви созда по власти [области] своей, ибо созда церковь прекрасну на дворе своем святаго мученика Дмитрия, и украси ю дивно иконами и писаньем, и принес доску гробную из Селуня святаго мученика Дмитрия, мюро непрестанно точащю на здравье немощным, в той церкви постави, и сорочку того же мученика ту же положи..."1. К постройке собора были, несомненно, привлечены лучшие зодчие, бывшие в распоряжении Всеволода. В литературе установилось мнение, что Дмитриевский собор построен по образцу церкви Покрова на Нерли. Однако это справедливо лишь постольку, поскольку оба памятника принадлежат к одному типу четырехстолпного кре-стовокупольного храма. Но как Покровская церковь отличалась от храмов Юрия, так и Дмитриевский собор был столь же глубоко отличен от церкви Покрова. Зодчими собора как бы руководило желание возвратить его массам тот спокойный, несколько тяжеловесный ритм и мощь, которые были столь типичны для храмов Юрия Долгорукого. Пропорции плана еще сохраняют продольную вытянутость, но алтарные апсиды вновь приобретают характер могучих полуцилиндров. Внутри храма господствует тот же дух спокойствия, прекрасно выраженный в мерном и торжественном ритме широких арок, несущих массивный широкий барабан главы с золоченым шлемовидным покрытием. Однако при всем этом храм отнюдь не приземист и не грузен. В отличие от храмов Юрия, Дмитриевский собор подчеркнуто величественен и по-своему строен; но это не утонченная женственная грация церкви Покрова на Нерли, а могучая, прекрасная слаженность и мужественная пропорциональность. Пилястры членят фасады на широкие доли, которые рассечены поперек пышным колончатым поясом, насыщенным густой резьбой. Верхние части стен с узкими окнами оставляют большие поверхности для размещения множества резных камней, расположенных горизонтальными рядами. Спокойные полукружия закомар как бы удерживают вертикальную энергию пилястр в границах фасада. Ни одна частность не нарушает величавого, медленного ритма княжеского собора. Эти качества архитектурного образа с исключительной силой подчеркиваются резным убранством храма, которое вызвало удачное сравнение его с тяжелой драгоценной тканью, наброшенной на тело собора и окаменевшей в виде рядов растений, чудищ и животных и пышной каменной бахромы колончатого пояса. Резьба здесь покрывает ковровым плетением и простенки барабана и архивольты портала. Но при всем богатстве скульптурного убранства фантазия зодчих не переходит черты, за которой декорация нарушила бы конструктивную ясность. Чистые вертикали пилястр четко и спокойно проступают сквозь каменную ткань резьбы, лишний раз напоминая о типичном для мастеров Всеволода классическом чувстве меры. При несравненно большей пышности и декоративности Дмитриевский собор, подобно Покрову на Нерли, свидетельствует о высоком совершенстве искусства его строителей, гармонически сливших средства архитектурного выражения и язык пластики для наиболее ясной передачи идей, заложенных в образе дворцового храма Всеволода. Подобно дворцовой церкви Боголюбовского замка, Дмитриевский собор первоначально включался в сложный архитектурный ансамбль великокняжеского двора. Разведками установлено, что дворцовые здания располагались к северу и югу от собора, их южное крыло было кирпичным, а северное -белокаменным; собор был, видимо, центральным и наиболее эффектным звеном ансамбля. Скульптурная декорация была, вероятно, применена и в этих несохранившихся зданиях двора Всеволода. Об этом говорят существовавшие до середины XIX века лестничные башни, примыкавшие к западным углам храма и украшенные подобно ему резным камнем и колончатым поясом. Башни в общих чертах напоминали башни Боголюбова и Успенского собора; как в последнем, они выступали по сторонам западного фасада и фланкировали его. Но в башнях Дмитриевского собора появились и новые черты: закомары, венчавшие их второй этаж, приобрели килевидную форму, а их шатровые верхи были, по-видимому, выложены из камня. После постройки собора и зданий Всеволодова дворца, расположившегося по соседству с Успенским собором и епископским двором, южная часть Среднего города стала аристократическим центром Владимира, образовавшим как бы единый архитектурный ансамбль. Это было подчеркнуто сооружением в 1194 - 1196 годах каменной стены владимирского детинца: она отрезала княжеско-епископский участок города от остальной его территории. В детинец вели единственные ворота крепостного характера с надвратной епископской церковью Иоакима и Анны, в общих чертах напоминавшие Золотые ворота. Они, как показали раскопки, располагались против Успенского собора. Княжеский же двор был в глубине детинца, куда городское население, по-видимому, не допускалось. Из-за стен детинца виднелись лишь верхи стен Дмитриевского собора с их крупными скульптурами, изображавшими, в частности (на северном фасаде), князя Всеволода с сыном на руках, окруженного четырьмя коленопреклоненными фигурами остальных сыновей; все же остальное убранство княжеского собора не было видно из города, и им могли любоваться лишь те, кто попадал на двор. Дмитриевский собор во Владимире до перестройки в середине XIX века. Дмитриевский собор был единственным храмом, входившим в богатый светский дворцовый ансамбль. Остальные постройки конца XII века, хотя и строившиеся на средства князя и освящавшиеся его высоким именем, были церковными постройками в собственном смысле слова: крупнейшей работой зодчих Всеволода была обстройка Успенского собора, за ней последовало сооружение соборов двух монастырей - мужского Рождественского и женского Успенского. Современный вид Успенского собора во Владимире после перестройки 1185 - 1189 годов (западный и южный фасады). Восстановление погоревшего Успенского собора (1185-1189) не ограничилось его укреплением и починкой. Храм, как говорилось выше, был обнесен с трех сторон новыми стенами и получил расширенную алтарную часть, превратившись на первый взгляд в новый пятинефный собор. В стенах галерей устроили аркосолии для гробниц усопших епископов и членов княжеского дома (недаром старые источники называют помещение галерей "гробницей", т. е. усыпальницей). Это сделало более просторным старый собор, который раньше был стеснен стоявшими у стен саркофагами. Пространство галерей было достаточно органично соединено с интерьером андреевского собора при помощи больших и малых арочных проемов в его стенах. Тем не менее, стены галлерей ослабили освещение, и потому на солнечном, южном фасаде всеволодова храма было сделано два ряда окон. Все же храм оставался погруженным в полумрак, и мажорное звучание светлого и богато украшенного пространства старого анреевского собора сменилось сумраком усыпальницы, гигантского мавзолея рода "владимирских самовластцев" и иерархов. Храм был заново расписан и украшен; кроме майоликовых плиточных полов, в алтаре были настланы полы из наборной майоликовой мозаики. Всеволодовы обстройки были несколько ниже стен старого собора, закомары которого поднимались над сводами галерей. Силуэт храма приобретал ступенчатость, отдаленно напоминавшую характерный ступенчатый силуэт киевской Софии и, может быть, Десятинной церкви. Возможно, что это было сознательным стремлением подражать прославленным храмам Киева, но в таком случае оно было осуществлено очень робко: легкая ступенчатость масс собора ощущалась лишь издали, с близкого же расстояния собор производил сильнейшее впечатление величием и спокойствием своих массивных форм. Его монументальность и статичность были усилены постановкой на углах галерей четырех глав, образовавших строгое и уравновешенное пятиглавие верха. Таким образом, зодчие Всеволода блестяще справились со сложнейшей технической и архитектурной задачей, органически объединив старое с новым. Как и Дмитриевский собор, Успенский собор характеризуется конструктивной ясностью архитектурной формы: так, например, мастера не смягчили асимметрии боковых фасадов, отражающей реальную разномасштабность расположенных за ними пространственных ячеек; они не маскировали полуколонной острые грани углов храма; широко открытые наружу щелевидные окна не скрывают незыблемой толщи белокаменной стены. Но мастера Всеволода столь же хорошо знали утонченные приемы, примененные при постройке храма Покрова на Нерли. Так, учитывая оптический ракурс храма со стороны южного фасада, видимого издали и снизу, они опустили ниже его пояс и, в отличие от остальных фасадов, "врезали" колонки пояса в толщу стены, углубив контраст света (на стволах колонок) и теневых пятен (в нишах); тем самым они усилили пластическую выразительность фасада. Зодчие собора показали себя и как первоклассные конструкторы, успешно справившиеся со сложной задачей объединения старого храма и обстроек, при сооружении которых они ввели и новые технические приемы, например дополнительные арки под угловыми восточными главами. Приближаясь к Дмитриевскому собору по характерному для него духу спокойного величия и торжественности, Успенский собор резко отличается от Дмитриевского подчеркнутой строгостью внешнего облика. Обновленный собор епископа был задуман совершенно без скульптур, за исключением резных архивольтов порталов, капителей пояса, пилястр и, может быть, части консолей колончатого фриза. В этой связи весьма показательно, что Дмитриевский собор с его пышным резным полусказочным-полуцерковным убранством был единственным памятником, постройка которого не удостоилась своевременного упоминания на страницах епископского летописца. Отсюда можно заключить, что обильное применение резьбы на фасадах храма встречало не очень благожелательное к себе отношение со стороны церкви. Далеко не случайно, что епископ Иоанн в 1194 году заботливо "обновлял" строгий по внешнему облику собор Мономаха в Суздале. Эти особые эстетические взгляды церковных кругов были столь же определенно выражены и в архитектуре двух не дошедших до нас соборов владимирских монастырей. Собор Рождественского монастыря (1192 - 1195), разобранный в 1859 - 1864 годах и замененный новым храмом, точно воспроизводившим его древние формы, был еще более строг. Его суровые обнаженные фасады лишились даже колончатого пояса, который был заменен сухим и колючим городчатым пояском. По-видимому, таким же монашески простым был ансамбль игуменского двора, в состав зданий которого включался собор. У углов собора до перестройки сохранялись остатки кирпичных лестничных башен со скромными деревянными лестницами внутри и такими же, как у собора, гладкими фасадами. Церковь Иоакима и Анны, построенная в 1196 году епископом Иоанном на воротах владимирского детинца, богато декорированная внутри, также не имела на фасадах скульптурных украшений. Собор Успенского "княгинина" монастыря (1200 - 1201) был построен в основном из кирпича, что исключало обильное применение резного камня, если не считать отдельных белокаменных архитектурных деталей. Собор на этот раз не был связан с каким-либо архитектурным ансамблем, но являлся изолированно стоящим храмом. У его восточных углов возвышались небольшие храмы-усыпальницы, напоминавшие подобные же приделы у Спасского собора в Чернигове и церкви Иоанна Богослова в Смоленске. Епископский Успенский собор и надвратный храм владимирского детинца, а также соборы двух княжеских монастырей позволяют осветить особую линию в развитии владимирского зодчества конца XII века. Она характеризуется стремлением к монашеской строгости архитектурного образа, отрицательным отношением к декоративной скульптуре, столь пышно расцветшей на стенах Дмитриевского собора. Появление кирпичной кладки, обновление епископом Мономахова собора в Суздале говорят о пробуждении интереса к старой киевской традиции в противовес светскому княжескому строительству с его любовью к пышности и узорочью. Таким образом, во владимирском зодчестве конца XII века определились два течения - церковно-монастырское и светское - княжеское. Последнее возбуждало настороженно-отрицательное отношение у церковников не только своим "суетным" великолепием, но также и тем, что это светское искусство было ближе вкусам народных масс; в резьбе причудливо переплетались языческие и христианские мотивы, темы легенды и книжности, а самая "строчность" резных камней и общая декоративность замысла имели, очевидно, много общего с народным искусством вышивки и деревянной резьбы. Это усложнение художественной жизни привело к обогащению опыта владимирских зодчих, которые знакомились с постройками своих собратьев в других княжествах и успешно осваивали их приемы. Сочетание кирпича и белого камня создавало возможности новых художественных эффектов. Владимирские зодчие теперь прочно входили в состав мастеров при княжеском дворе. Феодально зависимые строители были и среди церковных людей Успенского собора и епископа ("клевреты святой богородицы"); среди них развивалось разделение труда, появились специалисты по изготовлению свинцовых листов для покрытия храмов, мастера-кровельщики и "штукатуры". Мастера Всеволода III продолжили и развили великое искусство эпохи Боголюбского. Используя общерусский строительный опыт, они ослабляли "областную" художественную замкнутость Владимира, проявлявшего теперь тенденцию стать творческой лабораторией общерусского масштаба. После смерти Всеволода III (1212) быстро усиливается процесс феодального дробления, и держава владимирских князей, упроченная трудами Всеволода, постепенно распадается на более мелкие политические образования. Старый Ростов и Суздаль оспаривают политические права Владимира; в то же время поднимаются Ярославль, Нижний-Новгород (1221), Юрьев-Польской. Вместе с этим процессом дробления расширяется поле деятельности зодчих, строящих храмы и другие здания в этих городах. Владимир больше не привлекает на свои холмы многочисленных мастеров; только в 1218 году князь ростовский Константин строит здесь на Торгу маленькую, вероятно бесстолпную, церковь Воздвиженья. Памятники Владимиро-Суздальской земли предмонгольской поры дошли до нас либо искаженными перестройками, либо лежащими в руинах, но большая их часть исчезла без следа, и мы судим о них лишь по косвенным, подчас весьма спорным данным. В технических и художественных приемах зодчих того времени выступают новые черты; определяются две школы, которые развивают наметившиеся еще при Всеволоде различия. Одна продолжала старую традицию белокаменной архитектуры, усложняя резную декорацию; вторая использовала не менее эффектную технику сочетания кирпичной кладки с белокаменными деталями, родственную архитектуре Чернигова и Рязани. Строители первой школы работали в Суздале, Нижнем-Новгороде и Юрьеве-Польском; мастера второй строили преимущественно у князя Константина Всеволодовича и у ростовского епископа в Ростове и Ярославле. Работы ростовской школы и их объем можно оценить лишь по сведениям о них в письменных источниках. Крупнейшей из них была перестройка Успенского собора в Ростове (1213-1231), богато украшенного епископом Кириллом, который поставил в соборе писанные золотом врата и драгоценные алтарные кивории. Константин построил на своем ростовском дворе церковь Бориса и Глеба (1214-1220); в Ярославле был построен Успенский собор в кремле (1215) и храм Спасского монастыря (1216-1222). От ярославского собора сохранились белокаменные резные детали (львиная маска, капител1>), тонкий стенной и лекальный кирпич и обломки плиток майоликовых полов. Судя по косвенным данным, композиция этих храмов сближалась с постройками Юрия Всеволодовича- они имели притворы или приделы у восточных углов. Число мастеров ростовской школы, как показывает перечень их работ, было значительным, так что епископ Кирилл мог осуществлять свои строительные планы "день от дне, начиная и преходя от дела в дело". Постройки мастеров владимирской школы сохранились в Суздале и Юрьеве-Польском. Внешний вид перестроенного в 1528 году собора Рождества богородицы в Суздале с частями старого храма. Суздальский собор Рождества богородицы, как утверждает летопись, невзирая на ремонт, произведенный в 1194 году епископом Иоанном, продолжал ветшать; храм начал разрушаться, и даже провалились его своды; поэтому князь Юрий Всеволодович разрушил древний храм и в 1222-1225 годах построил на его месте новый. Это была, по словам летописца, церковь "краснейшая первой", т. е. еще более прекрасная. Возможно, что, помимо ветхости, мономахов собор не удовлетворял уже новых вкусов, воспитанных на роскошных зданиях Андрея и Всеволода. Это и определило его судьбу: его не сохранили как реликвию древности, но снесли до основания. Однако и новый собор не уцелел: в 1445 году снова рухнул его верх, и в 1528 году он был вновь достроен (из кирпича) от колончатого пояса и до глав. В соборе в общих чертах был повторен тип его более раннего предшественника - шестистолпного мономахова собора; с трех сторон к нему примкнули квадратные в плане притворы; боковые свободно открывались в средний поперечный неф, а западный - возможно открытый - сообщался с храмом через портал. Хоры собора занимали огромную площадь, простираясь до среднего нефа и оставляя внизу плохо освещенное пространство, использованное в качестве усыпальницы: в стенных аркосолиях и у столбов стояли гробницы. Ход на хоры шел изнутри храма по лестнице в северной стене западного притвора: над притвором было помещение второго этажа, откуда через арку в стене храма молящиеся попадали на "полати". Напоминая по своей двухэтажной башнеобразной конструкции и по назначению лестничные башни храмов XII века, притвор не связывался со зданиями княжеского двора. Храм впервые был городским собором в строгом смысле этого слова, изолированным от зданий княжеской или епископской усадьбы. Возможно, что этим была обусловлена и большая площадь его хор, на которых теперь присутствовал не князь с узким кругом своих придворных, но именитые горожане Суздаля. Хоры были обильно освещены окнами двух угловых глав, занимавших западные членения храма и образовавших его необычный асимметрический трехглавый верх. Западный притвор, через который входили посетители хор, был выделен двумя роскошными порталами. Южный портал, также богато украшенный резьбой, служил главным входом для молящихся, шедших в храм с кремлевской площади. В обоих притворах были поставлены великолепные медные врата, расписанные золотом, подобные тяжелым златотканным завесам, закрывавшим входы. Пол храма был в 1233 году выстлан майоликовыми плитками, показавшимися летописцу "моромором красным разноличным"; сделанная в том же году роспись, характеризовавшаяся обилием орнаментов, уподоблявших ее цветистому ковру, завершала отделку интерьера. Он был не менее богат и великолепен, чем в XII веке, но в нем смягчалась официальная представительность, сменяясь красочной и радостной узорчатостью и нарядностью. В том же направлении изменился и внешний облик Храма. Теперь строители всячески стремятся нейтрализовать некогда действенный принцип зависимости обработки фасада и его членений от конструктивной системы здания. Так, например, фасадные лопатки не вполне точно отвечают столбам собора; восточные закомары его боковых фасадов не отражали конфигурации лежащих за ними сводов, становясь чисто декоративными. Лопатки прерываются лентой плоской плетенки, а на углах над ней расположены резные распластанные львы. В южном портале свободное решение декоративной задачи становится особенно выразительным: капители частично заменены резными плитами, не соответствующими профилю косяка; его колонка прерывается бусиной. Закомара притвора приобретает килевидное очертание. Зодчие увлекаются резными деталями; резными становятся колонки портала и даже поребрик колончатого пояса. Несомненно, и верхние части стен были богато украшены резьбой, в которой можно предполагать широкое использование коврового орнамента в сочетании с горельефом. Характерны выделение главного фасада здания и сосредоточение на нем внимания мастеров. Таким главным фасадом Суздальского собора был южный, выходивший на кремлевскую площадь. Над его украшением работали лучшие резчики, тогда как северный фасад, обращенный к валу, отличался более посредственной и однообразной резьбой, а портал его притвора сохранял скупые формы времени Долгорукого. В такой трактовке сказался известный практицизм нового времени, который проявился и в использовании разного рода материалов: нижние части стен были сложены из легкого пористого туфа, а пояс колонок с их резной обработкой, требовавшей плотного камня, был выложен из хорошо вытесанного известняка. И то же время игра этих материалов создавала новый художественный эффект: четкие резные детали с большей силой выступали на шероховатом и пластичном фоне стены, сложенной из туфа, лишь прикрытого побелкой или обмазкой. Здесь как бы встречались в неожиданном сочетании владимирская утонченная декоративность с пластической простотой новгородских храмов. По-новому выполнен и колончатый пояс: он врезан в стену, органически сливаясь с ней, теряя характер свободно "висящей" "каменной бахромы". Колонки пояса своей несколько грубоватой цилиндрической формой и кубическими подставками напоминают скорее точеные из дерева балясины, чем стройные стержни колончатых поясов XII века. Во всем этом чувствуется веяние новых вкусов, идущих, возможно, от неизвестной нам деревянной архитектуры. По-видимому, тем же стилем характеризовался и собор Спаса в Нижнем-Новгороде, куда по окончании работы в Суздале перешли в 1225 году княжеские мастера. Он был, вероятно, четырехстолпным храмом с притворами; раскопками обнаружен ряд его артистически выполненных деталей, в частности, прекрасные фрагменты колончатого пояса, "врезанного", так же как в Суздале, в толщу стены. Из Нижнего зодчие перешли к князю Святославу, в столицу его удела - город Юрьев-Польский, где, так же как в Суздале, разобрали простой и бедный старый храм 1152 года и построили на его месте новый Георгиевский собор (1230-1234). Он также пережил катастрофу в XV веке и в 1471 году был снова "собран" из старого камня московским строителем В. Д. Ермолиным, сохранив свои древние стены не выше колончатого пояса. Это был четырехстолпный храм с тремя притворами и маленьким, посвященным Троице не сохранившимся приделом-усыпальницей у северо-восточного угла; его рельефы Ермолин употребил на достройку стен собора. Притворы были открыты внутрь храма, что существенно увеличивало его площадь; хор, вероятно, не было, и свободный и простой интерьер богато освещался расположенными в два яруса окнами. Западный притвор был больше боковых и, невидимому, имел, подобно притвору Суздальского собора, второй этаж, открывавшийся в храм небольшой аркой1 и служивший, вероятно, своеобразной небольшой "ложей" для княжеской семьи. Храм имел и здесь обращенный на городскую площадь главный (северный) фасад, обработка частей которого была поэтому строго взаимно согласована. Первоначально собор не был таким приземистым; над его поясом поднималась верхняя часть, примерно равная нижней; таким образом, массив храма возвышался над кровлями притворов, несколько напоминая крестообразный и высокий храм Михаила архангела в Смоленске, явившийся, несомненно, одним из "образцов", известных строителям. Но, конечно, главным в их творческом замысле было декоративное богатство здания, увлекавшее и мастеров Всеволода, строивших Дмитриевский собор, и их самих при постройке нарядного Суздальского собора и нижегородского Спаса. Портал и деталь стены Георгиевскою собора в Юрьеве-Польском. 1230 - 1234 годы. Георгиевский собор покрыт резьбой от цоколя до верха. Ковровый узор не только застилает стены, но покрывает лопатки и полуколонки: архитектурная форма как бы лишь просвечивает сквозь резную ткань. Колончатый пояс, так же как в Суздале, углубленный в стену, с такими же довольно короткими цилиндрическими колонками, приобретает еще более декоративный характер: мастера превращают аркатуру в чисто орнаментальный мотив из причудливых килевидных арочек, сливающихся с ковровым орнаментом стены. Орнамент скрадывает четкость архитектурной формы; угловая колонка собора неожиданно прерывается венком из торчащих в стороны человеческих голов. Закомары изменяют свою спокойную полуциркульную дугу на заостренную килевидную форму, появление которой мы отметили еще в башнях Дмитриевского и в притворе Суздальского соборов. Общий замысел декоративной системы, сочетающей ковровый узор фона с горельефными фигурами и композициями, сближается с аналогичным принципом русского прикладного искусства, любившего вставки высоких камней или эмалей на плоском фоне тончайшего сканного орнамента. Таким образом, монументальная архитектура соприкасается с общим руслом русского искусства, выявляя одни и те же художественные принципы, далеко уводящие Георгиевский собор от сравнительно недавних киевских "образцов" с их скупыми и строгими внешними формами. Органичность этого процесса, развивающегося с исключительной быстротой на протяжении 80 лет (считая с 1152 г. - даты храмов Долгорукого), исключает всякое сомнение в самостоятельности и глубокой оригинальности творчества владимиро-суздальских зодчих. Столь же органично и закономерно эволюционируют и отдельные детали, в частности архитектурные профили. Цоколи Георгиевского собора, оставаясь аттическими по своим элементам, как бы сплющиваются по горизонтали; обработка же двери в Троицком приделе приобретает своеобразную сложную профилировку. В своих последних предмонгольских постройках владимирские мастера все более решительно идут вперед, смело отражая в своем творчестве художественные вкусы с их любовью к сказочной узорочности. Чрезвычайно близким владимиро-суздальскому было зодчество Рязанского княжества, поддерживавшего оживленные отношения с Чернигово-Северской землей и многим ей обязанного в своей культуре. Во второй половине XII века оно попадает в круг неослабного внимания владимирских князей, усилению власти которых упорно сопротивляются владетели Рязани, не раз вступающие в вооруженную борьбу с владимирскими дружинами. Несомненно, что из этих военно-политических столкновений выносились новые художественные впечатления, оказывавшие свое воздействие и на развитие рязанской архитектуры. Ее памятники известны нам благодаря раскопкам бывшей столицы Рязанского княжества - Старо-Рязанского городища, лежащего на Оке ниже современной Рязани, и смежного с ним Ольгова городка на Оке у устья Прони. На обоих городищах были открыты фундаменты и нижние части стен храмов XII - начала XIII века. Большой Успенский и собор Старой Рязани очень близок Суздальскому собору по своему продолговатому шестистолпному плану и трем притворам; крс-щальня в его западном углу, в виде встроенной внутрь храма одноапсидной капеллы, напоминает собор Елецкого монастыря XII века в Чернигове. С черниговским зодчеством сближает храм Старой Рязани и его кирпичная кладка с применением резных белокаменных детален. При раскопках были найдены части покрытого орнаментальной резьбой косяка портала и фрагмент карниза-капители; резьба носит более самобытный характер и отличается как бы "деревянной" плоскостностью, карниз исполнен в исключительно четкой манере и передает классический по мотивам оригинал. Кроме того, при раскопках Старо-Рязанского городища найдены фрагмент резной головы льва, часть архивольта портала и три консоли. Собор был крыт оловом по закомарам и богато отделан внутри; обломки штукатурки с фресковой росписью и цветных майоликовых плиток полов говорят о характерном облике интерьера, знакомом нам по памятникам Владимира и Суздаля. Погребения в притворах собора позволяют думать, что это был главный княжеский храм. Раскопками 1949 года был открыт второй большой храм Старой Рязани - шестистолпный трехапсидный собор с полуколоннами на лопатках, но без притворов. По-видимому, это был Спасский собор. Развалины третьего храма считаются остатками церкви Бориса и Глеба. Это сравнительно небольшой четырехстолпный храм с тремя открытыми внутрь притворами, по общей конфигурации напоминающий Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. В отличие от последнего его боковые притворы превращены в придельные храмы со своими алтарными апсидами, так что в целом маленькая церковь Бориса и Глеба была пятиапсидной. Наконец, небольшой бесстолпный храм Ольгова городка, также кирпичный с белокаменными деталями, представлял собой крещатую церковь с очень массивными стенами. Расположенная у ворот крепости, она, по-видимому, играла и оборонную роль. Наличие трех монументальных храмов в столице Рязанского княжества и одного в Ольгове городке свидетельствует об интенсивном развитии здесь каменного строительства. Возможно, что архитектура Рязани была связана не только с искусством Чернигова и Владимира, но и с зодчеством Северного Кавказа. Владимиро-суздальское зодчество выделяется среди других областных архитектур XII-XIII веков рядом специфических, только ему присущих особенностей, оно обнаруживает родственные черты лишь с архитектурой Галицкой Руси, близкой владимирской по духу и стилю. Зодчие Владимирской земли, как и современные им мастера других княжеств, отправлялись от киевского наследия. Однако они претворили его с большим своеобразием и выразительностью. Артистическая белокаменная техника построек и четкость их исполнения сообщают им особое изящество, законченность и благородство. Мастера превосходно чувствовали пропорции и гармоническое соотношение частей здания, умело оттеняя их широким использованием рельефов. Особая оригинальность владимирского зодчества состоит в смелом слиянии русской традиции с декоративными деталями романской архитектуры. Это знаменовало отход от норм византийского архитектурного канона. Все возрастающий интерес к богатой украшенности архитектуры расширяет круг ее художественных источников, и зодчие все свободнее и органичнее вводят в резной убор народные мотивы и приемы. При этом каждый памятник сохраняет свое индивидуальное лицо и обладает своими эмоциональными оттенками. Суровая простота храмов Долгорукого, женственная грация и изящество церкви Покрова на Нерли, величавая красота Успенского собора, эпическая торжественность Дмитриевского собора, пышная декоративность и узорочье храмов XIII века- все это различные проявления одного и того же стиля. Владимирские зодчие стяжали себе славу не только художественным совершенством и идейной насыщенностью своих произведений, они прославились также и как крупные и самостоятельные мастера в наиболее сложной сфере архитектурного творчества - в композиции больших ансамблей. Такие памятники, как Боголюбовский дворец и замок, как исключительно целостный по своему последовательно осуществленному замыслу ансамбль столицы княжества - Владимира, являются шедеврами градостроительного искусства. Здесь, в гражданском строительстве, зодчие также исходят из русской традиции народного деревянного жилища и опыта русских горододельцев XI-XII веков. Элементы гражданской архитектуры проникают и в храмовое зодчество, органически связывая храм с башнями и переходами дворца. Все эти примечательные особенности владимиро-суздальских архитектурных памятников во многом объясняются историческими судьбами Владимирской земли. Здесь развернулась борьба владимирских "самовластцев" против феодального дробления, борьба за подчинение Руси власти владимирской династии. Эта тесная связь владимирского искусства с передовыми общественными тенденциями XII века определила его значение в последующей истории русского зодчества: владимирское художественное наследие стало основой искусства Москвы XIV-XV веков. 2. СКУЛЬПТУРА ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ РУСИ Большинство храмов Суздальской земли богато украшено рельефами. Они играют существенную роль в убранстве фасадов, входя органической составной частью в общий архитектурный замысел. Владимиро-суздальская пластика знаменует одну из высших точек в истории древнерусской монументальной скульптуры. Уже Киевская Русь украшала фасады зданий рельефами с фигурными изображениями. Немногочисленность дошедших до нас фрагментов не позволяет, к сожалению, определить, насколько распространенной была здесь подобная система декорации. Вполне возможно, что эту традицию занесли в Суздальскую землю киевские мастера. Однако было бы ошибочным целиком возводить владимиро-суздальскую пластику к киевским истокам. В процессе ее сложения решающую роль, несомненно, сыграли старые местные традиции деревянной резьбы, восходившие к далеким языческим временам. Ни в Новгороде, ни в Пскове, ни в Москве монументальная скульптура не привилась. Она получила полное развитие лишь во Владимиро-Суздальском княжестве и поэтому остается чисто местным явлением с четко выраженными территориальными границами. Три отрока в пещи огненной. Рельеф Успенскою собора во Владимире. 1158- 1161 годы. Уже первая постройка Андрея Боголюбского - Успенский собор во Владимире, возведенный между 1158 и 1161 годами,-была украшена рельефами. После пожара 1185 года, когда Всеволод III восстановил и расширил Успенский собор, рельефы андреевской постройки были частично перенесены на стены нового фасада. Здесь они и красуются в настоящее время, дополненные рельефами и консолями 1185-1189 голов, а также подделками 80-х годов прошлого столетия (в это время собор реставрировался Московским Археологическим обществом). Часть рельефов, как, например, "Сорок мучеников севастийских" и "Вознесение Александра Македонского", дошли до нас в сбитом виде (они помещены в западном членении южной стены), другая часть рельефов и фрагменты капителей находятся в Историческом музее в Москве. На основе этого материала Н. Н. Воронин дал убедительную реконструкцию первоначальной декорации андреевского собора1. В закомарах средних разделов стен были представлены "Три отрока в пещи огненной", "Сорок мучеников севастийских" и "Вознесение Александра Македонского". Эти сцены, по-видимому, фланкировались в боковых пряслах фигурами когтящих животное грифонов. Несколько ниже шел ряд женских масок, а по углам центральных окон были помещены изображения зверей или львиные маски. Консоли колонок аркатурного фриза имели простую клинчатую форму (на фасаде собора Всеволода консоли трактованы в виде масок и птичек; эти консоли были, по-видимому, выполнены в мастерских, украсивших позже церковь Покрова на Нерли и Дмитриевский собор). В своем целом декоративная система отличалась еще большой строгостью: скульптурные украшения не перегружали стену; занимая лишь ее верхнюю часть, они подчинялись форме полукруглого обрамления. Фигурные изображения Успенского собора прославляли стойкость мучеников, воителей за христианскую церковь, а также силу и могущество великого князя. Сорок мучеников севастийских, подвергнутых при императоре Лицинии страшным пыткам, издревле чтились церковью как особенно мужественные борцы за веру христианскую. К этой же борьбе призывала композиция "Три отрока в пещи огненной". "Физиолог" утверждает, что, подобно саламандре, они не побоялись огня, из которого вышли невредимыми; так и уповающий на бога не должен бояться погрузиться в пламя1. Рельеф с тремя отроками был умело использован зодчими Всеволода. Укрепленный на фасаде, выходившем на городскую площадь, он призван был напоминать о страшном пожаре 1185 года, являясь в то же время как бы талисманом, предохраняющим от повторения подобного бедствия. Совсем иное значение имел рельеф "Вознесение Александра Македонского". Эта сцена была довольно популярной на Руси, так как мы находим ее на ряде памятников (рельеф правого прясла южной стены Дмитриевского собора; перегородчатая эмаль княжеской диадемы, найденной в Сахновке близ Киева, монеты, чеканившиеся великим князем тверским Борисом Александровичем (1427-1461 гг.); каменная резная панагия XIV века в Зарайском соборе и др.)2. Александр Македонский, сидящий в корзине, запряженной грифонами, представлен возносящимся на небо. В руках он держит маленьких животных, используемых им как приманка для грифонов. Последние тянутся к зверькам и летят вверх, увлекая за собой "великого" царя. Этот эпизод, приведенный в "Александрии", знаменитой повести об Александре Македонском, пользовавшейся в средние века огромной популярностью как на Востоке, так и на Западе, послужил темой для множества изображений. Распространенность данного сюжета вызвана, без сомнения, его символическим значением. Согласно античной концепции, "вознесение" Александра трактовалось как прославление земной власти: сам бог Аммон подчинял царю - этому новому "властелину мира" - вселенную. Поэтому сцена "Вознесение Александра Македонского" воспринималась как торжество царской власти, как ее апофеоз. Вероятно, и для Андрея Боголюбского эта сцена была символом торжества великокняжеской власти, всенародной демонстрацией ее величия и славы. Остальные рельефы Успенского собора выполняли преимущественно декоративную роль. На фасадах средневековых церквей символические мотивы обычно чередуются самым прихотливым образом с чисто декоративными. Вот почему было бы ошибочным стремиться найти в каждой детали, в каждой звериной маске и в каждой фигурной консоли какой-либо затаенный смысл. Они были обусловлены во многом еще бесхитростной любовью к украшениям, тягой к богатому зрелищу. Но один мотив все же должен был иметь символическое значение-это женские. По-видимому, они намекали на посвящение храма богородице. Не исключена возможность, что эти маски были пережиточными формами славянского культа "богини - матери всего сущего". В таком случае старый языческий образ слился здесь с христианским образом "царицы небесной". Рельефы Успенского собора отличаются большой пластической выразительностью. Округлые, сильно проработанные формы массивны; природа камня, объем и весомость которого всячески подчеркиваются скульпторами, выявлена с предельной четкостью. В умелом использовании материала чувствуются вековые навыки профессиональных каменосечцев. При внимательном изучении капителей и масок Успенского собора становится ясным, что мы имеем здесь дело с двумя стилистическими группами. Часть капителей и большинство масок отличаются сочностью, правильностью рисунка и чистотой отделки; львиным маскам присуща острая гротескность, женские маски имеют напряженное выражение. Другие капители трактованы более плоско, их рельеф смягчен, они утратили сочность, сделались суше, орнаментальнее. Стиль рельефов Успенского собора дает основание предположить, что в их исполнении, помимо русских мастеров, принимали участие и приглашенные из западных областей. В средние века строительные артели передвигались с необычайной легкостью. Несмотря на феодальную раздробленность, территориальные границы не служили препятствием к переезду из одной области в другую, не мешали оживленным культурным связям между различными странами. Артели каменщиков, возглавляемые главным мастером (так называемым магистром), вели свободный, кочевой образ жизни. Принимая приглашения городских общин и индивидуальных заказчиков, они помогали местным силам возводить соборы. Нередко квалифицированных мастеров, являвшихся незаурядными зодчими, вызывали для консультации и для помощи в решении сложных конструктивных задач. Примеры такого использования иноземных артелей каменщиков насчитываются сотнями в истории средневековой архитектуры Франции, Англии, Италии, Германии. И есть все основания думать, что такая же заезжая артель работала во Владимире. Это предположение находит себе прямое подтверждение в словах летописи: "приводе ему [Андрею Боголюбскому] бог из всех земель мастеры"1. Откуда пришли работавшие в Успенском соборе мастера, мы, повидимому, никогда не узнаем. Наиболее вероятно, что они явились из Галицкой Руси, игравшей выдающуюся роль в укреплении культурных связей Владимиро-Суздальских земель с Западом. Арочный пояс всеволодовой обстройки Успенского собора во Владимире. Западный фасад. 1185-1189 годы. В Успенском соборе западные мастера работали бок о бок с русскими и ознакомили их с новыми изобразительными мотивами и усовершенствованными приемами обработки камня. Но они не сумели подчинить себе вкусы русских художников. Как это всегда бывало в истории русского искусства, заезжим мастерам пришлось приноровиться к местной среде, учесть ее пожелания и запросы. А это неизбежно привело к тому, что художественный язык пришельцев быстро подвергся обрусению. Победили национальные традиции. Рельефы Успенского собора, церкви Покрова на Нерли и Дмитриевского собора во Владимире - различные этапы этого интереснейшего процесса. Церковь Покрова на Нерли, воздвигнутая в 1165 году, очень скупо украшена рельефами. Последние расположены лишь в верхних частях стен, в закомарах. Фигуры Давида, различных животных и женские маски так искусно скомпонованы, что целиком подчинены полукружиям закомар. Рельефы каждого раздела стены образуют как бы "арочную" композицию. Несмотря на расположение фигур и масок рядами друг над другом, зритель читает рельефы не по горизонтали, а следуя линии их обрамления. Поэтому не нарушается тот вертикальный ритм, который определяет легкость и изящество всего здания. Дав на трех фасадах совершенно однотипные композиции, зодчий и скульпторы подчеркнули тем самым идеальную центричность постройки и ее кристаллическую ясность. Разнообразие декоративных систем, без сомнения, нарушило бы здесь единство архитектурного замысла. Поскольку рельефы лишены подчеркнутой массивности, столь типичной для декорации романских фасадов, они не отягощают стену. Их высота вполне достаточна, чтобы зритель мог воспринять их пластический объем, но она не настолько велика, чтобы плоскость стены оказалась нарушенной. Рельефы превосходно сочетаются с гладью стены, они живут с ней общей жизнью, они целиком подчиняются ее спокойному, мерному ритму. Работавшим здесь мастерам удалось создать удивительный по своей целостности ансамбль, в котором архитектура и скульптура так органически друг с другом слиты, что воспринимаются как единое целое. Капитель колонки западного фасада Успенского собора во Владимире. 1185 - 1189 го. В декорации церкви Покрова, при сравнении ее с убранством Успенского собора, бросается в глаза ослабление аскетического начала. Вместо сцен мученичества, призывавших верующих к самопожертвованию, здесь даны изображения царя Давида, возносящего хвалу богу как творцу мироздания. Тем самым аскетические мотивы уступают место жизнеутверждающим. Недаром мастера, подвизавшиеся в церкви Покрова на Нерли, использовали Псалтирь - эту наиболее радостную книгу Ветхого завета. Псалтирь была переведена на русский язык раньше всех других частей Ветхого завета, и очень скоро эта богослужебная книга сделалась также излюбленной книгой для чтения. Ее образы прочно вошли и в литературу, и в народную устную поэзию, и в пословицы. Ее высокая поэтичность в прославлении растений, зверей, птиц и стихий создала ей большую популярность, тем более что воспеваемые ею образы природы во многом перекликались с привычными анимистически-фольклорными образами вселенной. То, что представлено на стенах церкви Покрова на Нерли, находит себе наилучшее объяснение в 97, 148 и 150-м псалмах: "Восклицайте господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте" (97-4); "Пойте господу с гуслями, с гуслями и с гласом псалмопения" (97-5); "Хвалите господа от земли, великие рыбы и все бездны, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые" (148-7,10); "Все дышущее да хвалит господа!" (150-6). Соответственно этим словам псалмопевца художники изобразили на каждом из трех фасадов нерлинского храма восседающего на троне царя Давида. Правой, поднятой вверх рукой он благословляет, левой придерживает гусли. По сторонам от него стоят львы и "птицы крылатые", символизирующие вселенную. Львы совершенно утратили здесь свой хищный характер. Ничего хищного нет и в птицах, внимательно слушающих псалмопевца. Благодаря такой трактовке животных вся сцена приобретает особенно радостное настроение, созвучное торжественно-приподнятому тону Псалтири. Фигуры Давида и животных заполняют закомары средних разделов стен. Несколько ниже идет фриз из женских масок. Последние и здесь, как и в Успенском соборе, намекают на посвящение храма богоматери. Помещенные в боковых разделах фигуры грифонов, когтящих лань, также имеют символическое значение. В них, в отличие от львов, подчеркнута их хищная природа. Они безжалостно терзают свою жертву, зажав ее передними лапами. В романском искусстве грифон чаще всего символизирует плотскую страсть. В церкви Покрова на Нерли он воплощает злое начало, ведущее борьбу с добрым. И этот образ находит себе объяснение в Псалтири, где так говорится о нечестивцах: "Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище; подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает - и бедные падают в сильные когти его" (9-30, 31). Так как львы символизируют на стенах церкви Покрова доброе начало, они заменены здесь хищными грифонами. Если это объяснение правильно, тогда грифоны противопоставляются центральной группе как злая сила мира, принужденная против своей воли принять участие в прославлении творца. Недаром в 118-м псалме бог восхваляется за то, что он "укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей". Можно было бы, конечно, трактовать изображение когтящего животное грифона как чисто декоративный мотив, тем более что такие изображения были широко распространены в прикладном искусстве как Востока, так и Запада. Однако в отношении нерлинских рельефов подобное толкование мало вероятно: поскольку эти рельефы образуют стройное идейное целое, и фигурам грифонов следует искать такое объяснение, которое могло бы их поставить в тесную смысловую связь с композицией средних закомар. По сторонам от центральных окон, приходящихся над порталами, представлены лежащие львы со сложенными передними лапами. Их поза указывает на то, что художники хотели изобразить их спящими. Однако глаза львов открыты. Как объяснить это странное противоречие? В "Физиологе" так определяется "второе естество" льва: "егда спить в пещере своей, бдита ему очи"1. Львы, расположенные над порталами церкви Покрова, выполняли роль бдительных стражей, которые никогда не смыкают очей. Именно за это свойство прославляет их один средневековый поэт: Се есть лев, но страж, ибо спит с открытыми глазами, Поэтому поставлен пред вратами храмов2 Вот почему фигуры львов так часто располагали по сторонам порталов средневековых соборов (Майнц, Кельн, Вена, Анкона, Монца, Падуя, Парма, Равенна, Сполето и другие). И далеко не случайно изображения бдящих львов помещены на фасадах церкви Покрова на Нерли как раз над ее порталами: здесь было их место, поскольку им вменялось в обязанность охранять храм от проникновения в него враждебных сил. Помимо рельефов в закомарах и по сторонам центральных окон, церковь Покрова декорирована еще фигурными консолями (маски, птицы, различные животные) и изображениями львов. Последние украшают столбы внутри храма (они расположены под полочками, отделяющими пяту арки от столба). В южную и северную стены колокольни (позднее кирпичное здание) вставлены резные плиты с изображениями скачущих барсов и грифонов. Барсы представлены в стремительном прыжке: живо и остро переданы их нервные, сухощавые тела, разинутые пасти, когтистые лапы. Так как по своему типу они близки геральдическим изображениям барсов на щитах Георгия в Юрьеве-Польском и Федора в так называемом "Федоровском Евангелии" начала XIV века (из Ярославля), есть основание думать, что и в церкви Покрова на Нерли они имеют геральдический характер. Вероятно, барс входил в состав герба владимиро-суздальских князей3. В таком случае рельефы колокольни должны были в свое время украшать расположенную около храма башню, из которой князья могли непосредственно попадать на хоры церкви. Грифон, когтящий лань, и маски. Рельефы на боковом прясле церкви Покрова богородицы на Нерли. 1165 год. Декоративное убранство церкви Покрова на Нерли, с его широким использованием образов животного мира, впитало в себя немало элементов народного творчества. Мы не находим здесь ни чрезмерно жесткой иконографической системы, ни сложной, абстрактной символики, ни аскетического понимания природы. Наоборот, вся скульптурная декорация пронизана духом широчайшего приятия мира, в ней есть что-то оптимистическое, жизнеутверждающее. Звери, чьи изображения были глубоко понятны народу, поскольку животные играли значительную роль в старых языческих культах и поскольку они занимали выдающееся место в народной орнаментике, выступают здесь как символы прекрасной вселенной. Такое же значение придано им в русских иконах с изображениями на темы псалмов "Всякое дыхание да хвалит господа" и "Хвалите имя господне". В этом славословии богу принимает участие и царь Давид, образ которого крепко вошел в народное сознание. Вероятно, он воспринимался наподобие образа вещего музыканта и певца, столь популярного в эпосе (Орфей, Вейнемейнен, Боян - "Велесов внук" "Слова о полку Игореве"). Именно потому, что образ Давида преломлялся в народном сознании как образ вещего доброго заклинателя и вдохновенного певца о тайнах мироздания, ему и отвели столь значительное место среди рельефов церкви Покрова. На Руси Давид был одним из наиболее популярных святых. Недаром он упоминается в поговорке ("помяни, господи, царя Давида и всю кротость его"), недаром он сделался главным действующим лицом "Голубиной книги", где он выступает под видом царя Давида Евсеича. И кто знает, быть может, от этого образа царя Давида - благостного певца и музыканта, таинственно связанного с природой, тянутся прямые нити к образу былинного героя Садко, от звуков гуслей которого бешено пляшет морской царь и волнуются "море синее и реки быстрые"1 Рельефы церкви Покрова на Нерли, с их наивной непосредственностью и чисто фольклорной образностью, занимают выдающееся место в истории древне-русской скульптуры. В этих рельефах русские черты четко выступают как в общем идейном замысле с его Барс. Настенный рельеф колокольни церкви Покрова богородицы на Нерли. 1165 год. широким приятием мира, так и в строгой центричности предельно ясных, неперегруженных композиций, сознательно повторенных на всех трех фасадах, благодаря чему скульптурная декорация ставится в теснейшую связь с симметричной архитектурой храма. Изображенные скульпторами звери подкупают зрителя своим добродушием: они лишены преувеличенной экспрессии, столь типичной для гротескных образов животных на фасадах романских церквей. В манере обработки камня ясно чувствуются отдаленные отголоски привычной для русского человека деревянной резьбы (птицы и фигуры Давида). Самые ответственные части декорации были, без сомнения, выполнены русскими художниками, твердо примкнувшими к местным традициям. Этим русским художникам следует приписать все композиции с Давидом, маски и львов. Более романским характером отличаются фигуры грифонов и украшенные птицами, зверями и масками консоли. Среди масок мы встречаем забавные звериные морды, строгие женские лица и гротескно трактованные физиономии усачей. Консоли церкви Покрова на Нерли очень близки к консолям Успенского собора. Если все консоли андреевского Успенского собора были клинчатыми, то тогда консоли всеволодова Успенского собора происходят не от старой постройки, а возникли позднее. Если же на фасаде андреевского собора клинчатые консоли свободно чередовались (как на фасаде церкви Покрова) с фигурными, то тогда последние восходят к андреевскому зданию. При настоящем знании владимиро-суздальской пластики мы лишены возможности удовлетворительно решить этот вопрос. Но уже сейчас мы можем решительно утверждать, что консоли Успенского собора и церкви Покрова на Нерли были сделаны в одной мастерской, в которой подвизались заезжие мастера. Их творчество освещает один из самых ранних этапов в развитии владимирской скульптуры. Эти мастера очень скоро оказались вытесненными владимирскими каменосечцами, взявшими на себя ведущую роль и уже в церкви Покрова на Нерли решительно задававшими тон. Таким образом, основываясь на консолях аркатурных поясов, мы имеем возможность отделить работу пришлых художников от работы местных мастеров. Третий памятник владимирской монументальной пластики - Дмитриевский собор (1193-1197) - знаменует важнейший этап в ее развитии. Скульптуры этого храма были уже целиком выполнены русскими мастерами, коренным образом видоизменившими технику обработки камня привнесением в нее приемов деревянной резьбы. На стенах Дмитриевского собора камень как бы улетучился, все формы сделались более плоскими и легкими, в связи с чем декорация лишена присущих романской пластике тяжеловесности и массивности. Если дерево, этот привычный для славян материал, еще не вытеснило здесь камень, то оно во всяком случае целиком подчинило его себе. Старые местные традиции оказались настолько крепкими и стойкими, что они растворили в себе объемную романскую форму. Уже наши летописцы понимали, что в 90-х годах XII века дела с иноземными мастерами обстояли не так, как в 60-х. Говоря о сооружении в 1194 году церкви Богородицы в Суздале, летописец заявляет: "иже не ища мастеров от Немець, но налезе мастеры от клеврет святое богородици и от своих"1. Следовательно, к этому времени как при епископском дворе, так и при княжеском создались свои кадры опытных мастеров, которые легко справлялись с решением сложнейших задач, не нуждаясь в консультациях заезжих "магистров". Рельефы Дмитриевского собора являются лучшим этому доказательством. В Дмитриевском соборе рельефные украшения занимают более половины стены. Легкие и плоские, они делают стену похожей на огромный ковер, испещренный богатым орнаментом. Эти орнаментальные мотивы не ограничиваются гладью стен, но покрывают также колонки аркатурного пояса, архивольты арок портала, барабан. В отличие от церкви Покрова на Нерли, где рельефы были применены крайне скупо, в Дмитриевском соборе они затягивают тончайшей паутиной почти все здание, уподобляя его изящному драгоценному ларцу. Это придает постройке отпечаток особой изысканности и праздничности. Уже одним своим внешним видом Дмитриевский собор был творением "чюдным велми" и "прекрасным"2. Как и в церкви Покрова на Нерли, в Дмитриевском соборе стены фасадов делятся на три части, каждая из которых завершается полукружием. Средняя часть несколько шире боковых, благодаря чему она оказывается сильно выделенной. Соответственно этому центральный образ всей иконографической системы - царь Давид - расположен на средних пряслах, получающих, помимо архитектурной, также идейную акцентировку. Вместе с аркатурным поясом каждый из разделов стены образует самостоятельное целое. Но взятые вместе, они сливаются в единый по композиционному замыслу фасад, оформленный на основе трехчастного деления, идеально уравновешенного и строго симметричного. Как ни сильно декоративное начало в наружном убранстве Дмитриевского собора, оно все же не снимает вопроса об его идейном смысле. Уже В. Доброхотов3 и Н. Чаев4 стремились раскрыть сложное содержание рельефов Дмитриевского собора, воспринимавшихся в первой половине XIX века как таинственные, загадочные "гиероглифы"5 По их стопам пошел также Н. П. Кондаков, упорно пытавшийся найти ключ к объяснению всей декоративной системы, которую он связал с "Голубиной книгой"6. На этой же точке зрения стоял и Д. В. Айналов7, примкнувший к мнению В. Доброхотова (последний трактовал рельефы как иллюстрацию к словам Давида о славословии творца неба и земли всяким дыханием). Совсем иную позицию занял Д. Н. Бережков1. Он решительно отказывается усматривать единый идейный замысел в декоративном убранстве Дмитриевского собора. Для него все эти рельефы являются не более как простым украшением и оживлением стен. Последняя точка зрения может быть в настоящее время легко опровергнута. На Руси, как и на Западе, религиозное искусство регламентировалось церковью, которая ревниво следила за тем, чтобы его образы не расходились с основными церковными учениями. Вот почему все изображения как внутри храмов, так и на их наружных стенах должны были иметь определенный смысл, иначе они не были бы санкционированы духовенством. И если последнее (особенно в XI-XIII вв., когда двоеверие было повсеместным явлением) нередко смотрело сквозь пальцы на вольные толкования традиционных иконографических тем и на отступления от строгой догмы, то оно все же не могло допустить такого положения вещей, чтобы стены храмов украшались совершенно произвольно, без всякой системы. Рельефы Дмитриевского собора служат лучшим подтверждением правильности этого положения. При всей их декоративности и относительной "нецерковности" они имеют свой смысл, ключ к разгадке которого следует искать в тексте псалмов. На каждом из трех центральных прясел Дмитриевского собора представлен, как и на фасадах церкви Покрова на Нерли, царь Давид. Но он изображен здесь уже не как божественный певец, держащий в руках гусли, а как проповедник, с поднятой правой рукой и со свитком. И его окружают звери, число которых измеряется на стенах Дмитриевского собора сотнями. Эти звери чередуются с деревьями и с различными сценками церковного и светского содержания, умело вкрапленными между изображениями животных, которым отведено господствующее место. В арочках аркатурного пояса расположены многочисленные фигуры праотцов, патриархов, апостолов, святых (среди последних могут быть опознаны Стефан, Лаврентий, Борис и Глеб). С первого же взгляда становится очевидной близость декорации Дмитриевского собора к декорации церкви Покрова. И здесь мы находим царя Давида как главное действующее лицо, и здесь он окружен зверями, символизирующими вселенную. Это, следовательно, тоже славословие творца. Однако последнее представлено на стенах Дмитриевского собора в сильно расширенном варианте. Здесь в прославлении бога участвуют, помимо зверей, "дерева плодоносные и все кедры" (псалом 148-9), "цари земные и все народы, князья и все судьи земные" (148-11). Тексты псалмов и в данном случае объясняют смысл той декорации, которую непосвященный легко может принять за случайное сочетание фигурных мотивов, имеющих чисто орнаментальный характер. Основная мысль, определяющая идейный замысел скульптурного убранства Дмитриевского собора, есть признание великого совершенства мира. "Ибо ты возвеселил меня, господи, - говорит псалмопевец, - творением твоим; я восхищаюсь делами рук твоих". Эти слова могут служить как бы эпиграфом к обширному циклу Дмитриевских рельефов, воплощавших в сознании людей XII века красоту мироздания. Звери и деревья располагаются на стенах Дмитриевского собора в виде "строчных" композиций, несколько напоминающих вышивки. Мы находим здесь и львов, и грифонов, и различных птиц, и оленей, и пардусов, и василиска в виде крылатой женской фигуры с драконьим закрученным хвостом, и кентавров, и сиринов. Между ними вклинены фигурки всадников, Самсона, разрывающего пасть льву, борцов и охотников, стреляющих в птиц и сражающихся со зверями. Рельефы южной стены Дмитриевского собора во Владимире. 1193- 1197 годы. Аналогичные изображения нередко встречаются на полях иллюстрированных средневековых псалтирей, где они имеют символическое значение (всадники - святые воители, несущие человеку спасение; Самсон - олицетворение Христа, искупившего грехи человеческие; борцы - воплощение розни тела и духа; стреляющие из лука в птиц - носители злого начала и т. д.). По предположению Н. В. Малицкого, некоторые изображения (например, Никита с бесом) следует объяснить их популярностью на амулетах, откуда они перешли в монументальное искусство. Особое место среди рельефов Дмитриевского собора занимают две светские сцены, украшающие левое прясло северной стены и правое прясло южной. Эти две сцены бесспорно связаны с "великокняжеской" тематикой. Они выполняют здесь примерно ту же роль, какую выполняли росписи башен в соборе Софии и рельеф "Вознесение Александра Македонского" на стене Успенского собора. Они прославляют власть великого князя, его силу и могущество. В первой из сцен мы видим восседающего на троне Всеволода III с сыном Владимиром-Дмитрием на коленях, в связи с рождением которого был заложен собор. С обеих сторон подходят четыре других сына, склоняющиеся перед великим князем и изъявляющие ему верноподданнические чувства1. Другая сцена - "Полет на небо Александра Македонского". И тут, как и на стене Успенского собора, сцена эта воплощает триумф великокняжеской власти. Несмотря на обилие вставленных эпизодов, основной смысл скульптурной декорации Дмитриевского собора, конечно, не в них, а в трижды повторенных образах царя Давида, возносящего хвалу творцу, и во множестве фигур животных, символизирующих мироздание. Вселенная со всей тварью живущей воспринимается радостной и светлой. В зверях и птицах нет ничего резкого, хищного, преувеличенно мускулистого, как в тех гротескных страшилищах, которые украшают фасады романских соборов. Обращенные к центру, все они оказываются вовлеченными в единый поток, устремляющийся к Давиду. Вещий пророк, подобно магниту, притягивает к себе всех этих львов, грифонов, пардусов, птиц, совершенно утративших свой хищный характер. Тем самым вселенная, которую они символизируют, как бы получает внутреннее оправдание. В этом и заключается глубокое отличие дмитриевских рельефов от декораций романских порталов. Последние являют зрителю либо образ грозного Христа, обещающего искупление грехов, либо картину "страшного суда" со всеми его ужасами и нечеловеческими пытками. Католическая церковь всячески внушает верующему, что только она одна может дать ему спасение. Совсем иное понимание мира находим мы на стенах Дмитриевского собора. Здесь вместо враждебного отрицания природы, как погрязшего в грехе материального начала, дается ее апология. Это и порождает то радостное настроение, которое охватывает зрителя, когда он смотрит на Дмитриевский собор. От его декорации с ее наивно анимистическими представлениями тянутся прямые нити к таким явлениям русской культуры, которые пронизаны этим же жизнеутверждающим духом. И прежде всего вспоминается "Поучение" Владимира Мономаха: "Зверье розноличнии, и птица и рыбы украшено твоим промыслом, господи!.. И сему ся подивуемы, како птица небесныя из ирья [т. е. из теплых стран] идуть, и первее, [в] наши руце, и не ставятся на одиной земли, но и сильныя и худыя идуть по всем землям, божиимь повеленьемь, да наполнятся леей и поля. Все же то дал бог на угодье человеком, на снедь, на веселье. Велика, господи, милость твоя на нас, иже та угодья створил еси человека деля грешна. И ты [т. е. те] же птице небесныя умудрены тобою, господи; егда повелиши, то воспоют, и человекы веселять тобе; и егда же не иовелиши им, язык же имеюще, онемеють"1 Особое очарование дмитриевских, как и нерлинских, рельефов объясняется их органической и неразрывной связью с живым народным творчеством. В отличие от изображений животных в романском искусстве, где они сделались точно регламентированными аллегориями различных отвлеченных свойств и понятий, на Руси образы зверей сохранили наивную непосредственность, ясность и чистоту поэтических образов одушевленной природы. Отношение к ним было, примерно, такое же, как и в "Слове св. отец о постах", где говорится, что господь сотворил "скоти и звери, и птица, и гады, и всяко древо земное"2. В языческих культах звери всегда играли большую роль. Недаром против поклонения им неоднократно выступали выдающиеся представители русской церкви, в том числе и Кирилл Туровский, утверждавший, что дьявол в "тварь прельсти веровати: в солнце, в месяц, в звезды, а иныя в реки, и в источники, и в древа польская, и в огнь, и в звери"3. Об этом же поклонении зверям упоминается и в русском дополнении к "Слову Григория Богослова на богоявление": "Ов реку богыню нарицаеть и зверь живущь в ней, яко ба нарицая требу творить"4. В апокрифическом сочинении "Хождение богородицы по мукам" описываются мужи и жены, которые подвергаются великим мучениям: "Юже ны бе тварь бог на работу сотворил, того они все богы прозваша: солнце и месяць, землю и воду, и звери и гади"5. Как ни боролась церковь с языческими пережитками, она не смогла их побороть и в конце концов принуждена была их узаконить. Особенно упорно держалось в народе обоготворение зверей. В средние века человек был еще очень близок к миру животных. Он жил около опушки леса; по ночам он слышал завывания зверей, поутру находил их следы на снегу около своего дома. Охотясь на зверя, он изучал в совершенстве его повадки, психологию, привычки. Мир животных был для него близким и понятным. А поскольку двоеверие было крайне распространено в народе, существовали все предпосылки к тому, чтобы языческие фольклорные образы нашли себе доступ в украшения христианских храмов. И церковь широко использовала звериные мотивы в украшении храмов, так как превосходно учитывала доступность этих мотивов крестьянским массам. Но, приняв эти мотивы, церковь подвергла их идейной переработке. Все эти образы были ею приспособлены для иллюстрирования псалмов, для прославления творца и красоты мироздания. Так сложилась иконография владимирских рельефов, отличающаяся замечательной жизнерадостностью и совершенно чуждая христианского аскетизма. И если в консервативных кругах духовенства декорация Дмитриевского собора, вероятно, породила резкую оппозицию, так как она воспринималась как обоготворение не творца, а твари, то у простых людей она должна была вызывать совсем иное чувство - чувство радостного любования красотою мира, символизированного привычными образами зверей. В рельефах Дмитриевского собора довольно последовательно проведен один принцип: сила рельефа нарастает от нижних рядов к верхним. В более высоком рельефе даны изображения, расположенные над окнами, в более низком - изображения под окнами. Это сделано сознательно, с учетом точки зрения зрителя, от которого скульптурная декорация находится на значительном расстоянии. Чтобы нижние части не заслоняли верхние, их надо было несколько облегчить. Мастера дмитриевских рельефов так и поступили. Тем самым они приняли во внимание условия восприятия зрителем рельефов снизу. Аналогичный прием можно найти во фризе Парфенона, где по тождественным соображениям верхняя часть фигур обработана более выпукло, нежели нижняя. Изображение львов на капителях внутри Дмитриевского собора во Владимире. 1193-1197 годы. Изучая внимательно дмитриевские рельефы, нетрудно заметить, что они распадаются на несколько стилистических групп. Часть фигур дана в округлом рельефе, со сферической поверхностью, с почти не имеющими прямого обреза краями, которые тщательно округлены и плавно переходят к полю стены (наиболее яркий пример такого рода рельефа - львы на столбах внутри Дмитриевского собора). В подобном понимании рельефа ясно проступают навыки каменосечцев. Другие фигуры трактованы совсем плоско. Здесь рельеф имеет по краям прямой обрез, перпендикулярный как к площади резьбы, так и к поверхности стены. Моделировка достигается гравировкой линиями, энергично врезанными в камень (самыми характерными образцами такого рельефа являются изображения под окнами). Тут определенно дают о себе знать навыки древодельцев, переносивших на камень приемы деревянной резьбы. Между этими двумя типами рельефов, знаменующих крайние полюсы, имеется ряд промежуточных типов, в которых прихотливо сочетаются различные виды рельефа и его обработки. Но в целом на стенах Дмитриевского собора преобладает плоский рельеф, выполненный руками древодельцев. К сожалению, скульптурное убранство Дмитриевского собора изрядно пострадало от времени. Некоторые изображения перевернуты, всюду рассыпаны различные куски, попавшие на нынешние места явно случайно, несколько рельефов частично сбито, у других срезаны не умещавшиеся части, от некоторых групп сохранились лишь половины или даже меньшие части их. Во время реставрации 1838-1839 годов имевшиеся пробелы были заполнены новыми рельефами, представлявшими подражание старым (например, часть медальонов с полуфигурами святых, ангелы по сторонам "Крещения", отдельные фигуры аркатурного пояса, ряд консолей и другие). Возможно, что к этому же времени относятся, как полагает Н. В. Малицкий, и более существенные доделки, которые Л. А. Мацулевич датирует началом XVIII века1. К числу таких фундаментальных доделок принадлежат средняя часть "Крещения" и северная сборная трехчастная композиция в западных закомарах обоих боковых фасадов, а также единоличные изображения в аркатурном поясе по всему южному фасаду, на среднем прясле западного и на среднем и левом пряслах северного (аркатура правого прясла северной стены с изображениями Бориса и Глеба, архидиакона с евангелием и кадилом и других святых остается нетронутым куском XII века, за исключением одного нового льва над головою Глеба; на боковых пряслах западного фасада также уцелело несколько древних изображений - восседающий на троне Христос, богоматерь (?) с воздетыми руками и ряд фигур святых). Все эти добавления выполнены в очень высоком рельефе. Это почти статуарные фигуры, прислоненные к фону. Из-за высокого рельефа эти изображения совсем выпадают из общего декоративного ансамбля. Они грубо нарушают тот плоскостной ритм, который положен в его основу. Позднейшие доделки Дмитриевского собора далеко не исчерпываются отмеченными выше, и для выявления их предстоит проделать еще большую исследовательскую работу. Мы уже указывали, что в рельефах Дмитриевского собора дерево победило камень. Местные, владимирские древодельны не только перенесли на камень технические приемы обработки дерева, но и насытили стены собора теми богатыми фольклорными образами, которые веками бытовали в народе и широко применялись в не дошедшем до нас деревянном зодчестве. Еще арабский географ Масуди, живший в Х веке, прославлял святилища славян за их красоту; ярко раскрашенные, эти святилища блестели при восходе солнца1. Епископ Титмар Мерзебургский около 1020 года сообщает, что в священном лесу лютичей в Ретре (Мекленбург) стояло капище, художественно срубленное из дерева; его наружные стены были украшены "чудесными вырезанными изображениями богов и богинь"2. Автор жития Оттона Бамбергского (1124-1129) в описании главной контины (т. е. священного здания) славян в Щетине рисует картину, напоминающую декоративное убранство владимиро-суздальских храмов: и наружные и внутренние стены контины были покрыты резными изображениями людей, птиц и зверей, представленных "столь верно и естественно, что казалось, они дышали и жили... Краски наружных изображений ни от каких дождей и снегов не могли потускнеть, ни стереться-таково было искусство живописцев"3. Наконец, датский летописец Саксон Грамматик (1140-1206), описывая наружный вид контины в Арконе (на острове Рюгене), сообщает, что она "блистала искусно сделанными барельефами различных фигур, но безобразно и грубо раскрашенными"4. Все эти свидетельства не оставляют никаких сомнений, что языческие храмы славян были богато разукрашены фигурной резьбой, истоки которой должны были восходить к самым отдаленным временам. Эта резьба по дереву была искони славянским ремеслом, коренившимся в обилии огромных лесных массивов, поставлявших весь необходимый строительный материал. Вполне возможно, что в Залесье, особенно в его наиболее глухих местах, могли сохраниться старые капища с рельефными украшениями, могли держаться и языческие традиции резьбы по дереву. В таком случае декорировавшие Дмитриевский собор мастера имели возможность использовать художественное наследие, доставшееся им от далеких языческих времен. Связь декоративного убранства Дмитриевского собора с украшениями капищ никак не может быть в настоящее время доказана. Это лишь гипотеза, которая нуждается в научной проверке. Гораздо менее проблематична связь этого убранства с украшениями деревянной избы и народным прикладным искусством. Одна из основных особенностей скульптурной декорации Дмитриевского собора - строчность композиций. Рельефы идут ровными рядами, в их расположении нет ничего случайного, поскольку они образуют строго упорядоченную систему. Несомненно, в таком распределении растений и фигур животных и людей сказалось стремление художников передать вселенную как стройное целое, в котором царят законы гармонии. Но даже учитывая зависимость композиционного построения от общего идейного замысла, приходится все же искать объяснение этой строчности композиций, аналогию которой невозможно найти ни в одном романском здании Запада, где рельефы обычно располагаются очень свободно, а часто даже асимметрично. Арочный пояс северной стены Дмитриевского собора во Владимире. 1193- 1197 годы. Украшая фасады Дмитриевского собора, владимирские древодельцы исходили, по-видимому, из тех композиционных принципов, которые были для них привычными, когда они резали карнизы, причелины и оконные колоды домов. Как выглядели последние в XII веке, мы, к сожалению, не можем сказать, так как у нас нет соответствующего материала. Здесь приходится основываться на поздних памятниках народной резьбы, которые позволяют, однако, делать некоторые выводы о более ранних этапах развития, поскольку в этом виде творчества старые формы и приемы их обработки держались необычайно стойко. Вот почему представляют такой большой интерес опубликованные И. А. Голышевым1 и А. А. Бобринским2 карнизы домов Владимирской губернии и различные резные доски и причелины. Мы находим здесь фигурки львов, сиринов и птиц, данных в строчной композиции. Нередко животные изображаются по сторонам сильно стилизованных растений. Аналогичные строчные построения встречаются на каймах простынь и полотенец, происходящих из Олонецкой, Новгородской, Псковской, Вологодской и Ярославской губерний3. И здесь фигурируют различные животные (львы, единороги, птицы, сирины, грифоны), чаще всего расположенные по сторонам деревьев. Есть все основания думать, что приемы строчной композиции были перенесены владимирскими древодельцами на стены Дмитриевского собора из народного искусства - из деревянной резьбы и шитья. Переложенные на язык монументальных форм, эти приемы породили совсем новые художественные эффекты. Следовательно, дерево не только повлияло на оплощение камня, но видоизменило и общий ритм расположения рельефов, обусловив переход к таким композиционным принципам, которые широко применялись в русском народном творчестве. Вопрос об истоках звериных мотивов владимиро-суздальской пластики принадлежит к числу запутаннейших вопросов в истории русского искусства. Эти истоки возводили к Ассирии, Индии, Александрии, Малой АЗИИ, Кавказу, Ирану, Киеву, Галичу, Саксонии, Швабии и Византии. Обычно исследователи основывались на чисто внешних сопоставлениях, забывая о том, что звериный орнамент был широчайшим образом распространен по территории всего средневекового мира. Поэтому из факта установления сходства между звериными мотивами двух различных памятников еще отнюдь не следует, что один из этих памятников повлиял на другой. Звериные мотивы настолько прочно обосновались в народном искусстве, они были настолько понятны склонному к фантастике средневековому мышлению, их связь с жизнью и бытом средневекового человека была настолько тесной и органичной, что они могли складываться и развиваться в разных странах совершенно независимо. Здесь параллелизм развития - вещь более обычная, чем в любой иной области художественного творчества. Зверя любил и зверем интересовался не только кочевник, но и селившийся около лесов землепашец. Вот почему абсолютно неприемлема компаративистская теория Стржиговского, который все сводит к процессу механических заимствований и к влияниям. Владимиро-суздальская пластика представляется ему не более чем одним из ответвлений иранского искусства1 (sic!). Для обоснования этой абсурдной точки зрения Стржиговский (а за ним и Фаннина Халле2) принимают в качестве передаточного пункта Кавказ. Эта фантастическая теория, особенно в свете новых исследований, не выдерживает никакой критики. Среди изображений животных на стенах Дмитриевского собора многие восходят, без сомнения, к древним тотемическим представлениям. Эти изображения должны были бытовать в народе на протяжении долгих столетий. Во всяком случае, уже на произведениях киевского прикладного искусства и в киевских рукописях XI века животные являются одним из излюбленных мотивов украшения3. Они встречаются также в росписях лестницы киевской св. Софии (грифоны, барсы и т. д.). Это доказывает, что на русской почве звериная орнаментика была очень старой традицией, восходящей своими истоками еще к скифской эпохе. Так как восточное серебро и восточные и византийские ткани ввозились на Русь в течение всех средних веков, русские мастера имели полную возможность черпать из них новые звериные типы, комбинируя последние со старыми, бытовавшими на Руси с незапамятных времен. Чем внимательнее вглядываешься в дмитриевские рельефы, тем более бросается в глаза один примечательный факт: местные звери, как, например, волк и медведь, культы которых были широко распространены на Севере, здесь полностью отсутствуют. Зато на стенах Дмитриевского собора мы находим очень много животных, связанных с восточной фауной и восточной мифологией. По-видимому, на Руси нашел себе место тот же процесс широкой ассимиляции восточных звериных мотивов, который наблюдается и на Западе. Французские ученые, во главе с Анларом и Малем4, убедительно показали, сколь многим было обязано романское искусство Востоку. Они наглядно продемонстрировали, как изображения львов, грифонов, двуглавых орлов перешли в романскую пластику из завезенных с Востока шелковых тканей и ковров, которыми украшались церкви. Эти шелковые ткани широко применялись на Западе и для хранения реликвий святых. На Руси восточные ткани также были популярны, о чем, в частности, свидетельствует сохранившийся в гробнице Андрея Боголюбского во владимирском Успенском соборе кусок парчевой ткани с изображением львов и грифонов5. Не меньшее распространение на Руси имели и восточные изделия из металла, в таком большом количестве найденные в открытых на нашей территории кладах. Через эти произведения, равно как и через восточные и византийские ткани, древняя Русь вплотную соприкоснулась с тем фантастическим звериным миром, с которым она ознакомилась по первоисточникам, а не из вторых рук, т. е. не на основе романских вариантов. Фигурирующие на стенах Дмитриевского собора пары животных с одной мордой либо с переплетающимися шеями являются очень старым восточным мотивом, встречающимся уже на халдейских цилиндрах-печатях. Вероятно, отсюда этот мотив перешел в восточные ткани. Вгрызающийся в свою жертву лев, когтящие четвероногое животное хищные птицы, стоящие по сторонам от дерева и жующие его листву козочки бесспорно восходят к изображениям на сасанидском металле и шелковых тканях (ср. серебряные блюда из Половодова и Комарова в Эрмитаже и раннюю византийскую ткань в Епархиальном музее в Кельне; серебряное блюдо из Мальцева и кувшинчик из Курилова в Эрмитаже; бронзовое блюдо из Дагестана в Эрмитаже)1. Внешний облик львов и барсов очень напоминает аналогичные образы на сасанидских блюдах (ср. особенно фигуры львов, стоящих по сторонам Давида на среднем прясле северной стены, с изображениями на блюде из Онашата в Эрмитаже; фигуры барсов левого прясла западной стены ср. с изображениями на блюде из Климова в Эрмитаже)2. Наконец, изображенные в строгих фронтальных положениях орлы находят себе ближайшие параллели в византийской "имперской" ткани XII века, отдельные фрагменты которой хранятся в Берлине, Бриксене, Штутгарте, Оденэее и Зальцбурге3. Эти аналогии ясно показывают, какие образцы были использованы владимирскими мастерами. Если в их руки и могли попасть отдельные византийские иллюстрированные рукописи с развитой звериной орнаментикой (типа "Слов" Григория Назианзина в парижской Национальной библиотеке, gr. 550), то все же не из миниатюр заимствовали они свои экзотические звериные мотивы. Рельефы Дмитриевского собора имеют двоякую природу. Покрывая стены великокняжеской постройки, они придают ей особую изысканность и великолепие. Но, с другой стороны, эти рельефы, поскольку они возвышались над оградой и тем самым были доступны любому, подходившему к собору, и поскольку они насыщены фольклорными образами, отличаются большим демократизмом. Н. П. Кондаков очень правильно заметил: "Храмы [Владимиро-Суздальской области] украшались с расчетом на то, что толпы толкущегося возле них в праздник народа найдут и время и охоту разобрать поучительные темы наружных украшений и воспользуются ими как наглядным наставлением и церковным обучением"4. Всеволод III прекрасно учел это обстоятельство. Опираясь в борьбе с боярством на "мизинних" людей, он принял во внимание при постройке своего дворцового храма вкусы тех широких масс городского населения, которые всегда представлялись ему крупнейшей политической силой. И если внутри собора, с его изумительными росписями, с его драгоценной утварью, с его торжественным богослужением, с его пряным фимиамом, господствовала церковная стихия, то снаружи собор являл картину широчайшего приятия мира. Здесь народные анимистические представления о радостной одухотворенности природы своеобразно сочетались с хвалой псалмопевца в честь ее "творца". Монументальная скульптура, испытавшая такой замечательный расцвет на почве Владимира, получила в XIII веке широкое распространение в Ростово-Суздальском крае. В Горьком сохранились резные капители от церкви Спаса (1225), в Коломне-относящееся к более позднему времени рельефное изображение единорога на стене церкви на Городище, в Ярославле - резные капители и маска от Успенского собора (1216), в Рязани - мелкие скульптурные фрагменты, в Ростове-львы, происходящие с неизвестной постройки, и львиная маска от "златых" дверей собора (1231). Но самые значительные памятники монументальной пластики XIII века дошли до нас в Суздале и в Юрьеве-Польском. Они иллюстрируют заключительный этап в развитии владимиро-суздальской скульптуры, блестящему расцвету которой был положен внезапный конец страшным татарским нашествием. Суздальский собор (1222-1225) имел в свое время богатое скульптурное убранство, от которого до нашего времени сохранились лишь жалкие фрагменты. Несомненно, верхняя часть стен над разделанным "елочной" резьбой сухарчатым пояском была декорирована резным камнем. Лопатки фасада сохранили женские маски в киотах, орнаментальные ленты и фигуры львов; базы недавно расчищенного портала оформлены в виде львов, львы же изображены над колонками, которые превратились в балясины; наконец, консоли аркатурного пояса украшены различными растительными мотивами и изображениями животных. Женские маски, близкие по стилю к маскам Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, говорят о посвящении храма богородице. По сравнению с рельефами Дмитриевского собора, особенно же церкви Покрова на Перли, в суздальских рельефах можно отметить нарастание декоративно-плоскостного начала. Последовательному оплощению подвергаются все части скульптурного убранства - листья капителей, фигурки животных, орнамент. Крайне начала. Последовательному оплощению подвергаются все части скульптурного убранства - листья капителей, фигурки животных, орнамент. Крайне показательно, что объемные консоли Дмитриевского собора заменены здесь рельефами, притом трактованными очень плоско. Тем самым усиливается "ковровый" характер всей декоративной системы, что получает еще более яркое выражение в рельефах собора в Юрьеве-Польском. Женская маска и часть арочного пояса собора Рождества Богородицы в Суздале. 1222- 1225 годы. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (1230-1234) в настоящем своем виде представляет величайшую загадку для исследователя. После того как в 1471 году обрушились своды собора, здание было заново собрано московским зодчим В. Д. Ермолиным. Последний выполнил реставрацию собора крайне небрежно: камни сложены совершенно беспорядочно, часть плит оказалась вне стен собора, другая часть была использована при возведении новых сводов, наконец, в стены вставлены камни, взятые из других зданий. Все это привело к распаду некогда стройной декоративной системы на отдельные разрозненные фрагменты, случайно друг с другом сопоставленные и чаще всего немилосердно перепутанные. Вот почему так трудно разобраться в этом памятнике. К. К. Романов, особенно много им занимавшийся, не довел, к сожалению, своей работы до конца. Георгиевский собор еще ждет своего исследователя. Богоматерь - "Знамение". Рельеф над южным порталом Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 1230- 1234 годы. Рельефы Георгиевского собора представляют третий этап в развитии владимиро-суздальской пластики. Они логически завершают тот процесс количественного нарастания декоративных элементов, который так четко наметился уже в Дмитриевском соборе. Стены Георгиевского собора покрыты богатым растительным узором. Эти узоры, исполненные в нежном рельефе, лишают стену массивности; уподобляя ее чеканному окладу или парче, они придают всей постройке особенно изысканный характер. Вместо скупых, монументальных форм церкви Покрова на Нерли мы находим здесь нечто столь интимное и камерное, что с первого же взгляда становится очевидной иная направленность этого искусства. Тяжеловесная массивность уступает место узорочью, тонкой паутиной обволакивающему стены храма, которые кажутся как бы вибрирующими благодаря мягкой игре светотени. Даже фигуры аркатурного пояса утратили статуарный характер, напоминая резанные по слоновой кости плоские рельефы. В соборе Юрьева-Польского орнаментальная стихия окончательно побеждает, растворяя в плоскостном ритме членения стены, маскируя конструкцию здания, приобретая не только самостоятельное, но и господствующее значение. Восстановление первоначального убранства Георгиевского собора наталкивается на большие трудности, поскольку все плиты оказались перепутанными при перестройке. Система декорации может быть реконструирована лишь в основных чертах, многое остается неясным, целый ряд элементов не укладывается в эту систему; объяснение этому следует искать либо в том, что они были перенесены на стены Георгиевского собора с несохранившейся усыпальницы, либо в слишком большой фрагментарности дошедших до нас рельефов. Поверх покрытой узором стены шел аркатурный фриз с фигурами фронтально стоящих святых (среди последних могут быть опознаны Георгий, Дмитрий Солунский и Федор Стратилат, соименные главным представителям княжеской семьи, а также Борис, Глеб, Козьма, Дамиан, Пантелеймон, Федор Тирон и многочисленные пророки; на западной стене аркатурный фриз включал в себя "Деисус" с архангелами и апостолами, чьи фигуры разбросаны но различным фасадам). Не исключена возможность, что над поясом аркатурного фриза были расположены личины и львиные усатые маски, из пасти которых выходили растительные разводы, составлявшие волнообразный узор. Выше, в килевидных закомарах, находились над окнами изображения "Распятия", (Праздников)) ("Преображение", ((Вознесение", "Покров"), библейских сцен ("Даниил во рву львином", "Три отрока в пещи огненной") и одной редко встречающейся сцены ("Семь спящих юношей эфесских"). Все эти изображения имели орнаментально разделанные фоны, как бы продолжавшие узоры нижней части стены. Над порталами притворов также расположены фигурные композиции; над западным порталом - "Деисус", над южным - "Знамение" (богоматерь в образе Оранты с медальоном юного Христа на груди; над северным - Георгий и Спас. К северо-восточному углу собора примыкал Троицкий придел - усыпальница князя Святослава. С ее стен происходят святые в медальонах и "Троица", находящаяся теперь на южной стене собора. Великомученик Георгий. Рельеф над северным порталом Георгиевскою собора в Юрьеве-Польском. 1230 - 1234 годы. Рельефы южной стены Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 1230 - 1234 годы. Кроме того, по стенам собора в беспорядке разбросаны плиты с изображениями херувимов и серафимов, ангелов, фигур святителей, полуфигур святых, сиринов, грифонов, львов, птиц, кентавров, слона, фантастического зверя в виде полусобаки-полуптицы, чье тело и хвост покрыты чешуйками. Этот последний образ, родственный иранскому сэнмурву, является, возможно, пережиточной формой славянского языческого божества Симаргла. Точное местоположение всех этих изображений в первоначальной системе декорации Георгиевского собора совершенно неясно из-за отсутствия ряда существенных звеньев, по-видимому, безвозвратно утраченных. Сравнивая декорацию Георгиевского собора с владимирскими памятниками, приходится отметить усиление не только декоративного, но и церковного начала. Изображенные на его стенах традиционные "праздники" и библейские сцены, прославляющие стойкость уповающих на бога, даны в сочетании со множеством иконно трактованных фигур святых, которые опоясывали все стены храма. Как и на одновременных суздальских вратах, здесь впервые представлен "Покров богородицы", связанный с церковным русским праздником. Весьма показателен также повышенный интерес украшавших собор мастеров к такой излюбленной древнерусскими художниками теме, как "Деисус". Фигура из "Деисуса", эфесские юноши и маски. Настенные рельефы Георгиевскою собора в Юрьеве-Полъском. 1230 - 11234 годы. Этот иконографический тип фигурирует в двух видах - фигуры даны либо по пояс, либо в рост. Здесь уже заключено то ядро, из которого разовьется в дальнейшем композиция иконостаса, с ее строгим центризмом и симметрией. Несколько выпадает из общей иконографической системы выше названная сцена, изображающая "Семь спящих юношей эфесских". Помещение ее на стенах собора следует объяснять, как это было правильно отмечено Е. С. Медведевой, ее популярностью на амулетах. На одном змеевике XIII века в Историческом музее представлена та же сцена. Надпись содержит молитву о даровании мирного и животворящего сна "рабам божиим" Георгию, Христине и Марии (речь идет о членах семьи князя Георгия Всеволодовича). В легенде очень образно рассказывается о том, как юноши, ради спасения от мучений за веру, заснули в пещере возле Эфеса и как они проснулись два века спустя, уже при торжестве христианства. Эта легенда объясняет, почему данная сцена изображалась на змеевиках. Она символизировала магически оградительную силу сна, поскольку существовало поверье, что связанное с подземным миром бесовское существо поражает человека главным образом во сне1. Вероятно, из амулетов изображение спящих юношей эфесских перешло в монументальное искусство, где это изображение, по-видимому, сохранило тот же магический смысл. Общая система декорации Георгиевского собора напоминает драгоценные оклады и переплеты. Подобно тому как на последних эмали и камни монтируются в орнаментированное поле, на стенах Георгиевского собора фигурные изображения оказываются вставленными в сплошь затянутую орнаментом поверхность стены. Это создает богатое живописное впечатление и налагает на внешний облик собора тот отпечаток ювелирной изощренности, о котором уже шла речь выше. Бесспорно, работавшие в Юрьеве-Польском мастера почерпнули немало импульсов из русского ювелирного искусства. У нас есть теперь возможность восстановить практиковавшийся в Юрьеве-Польском метод работы. Сначала были выполнены на земле и поставлены на места все изображения более высокого рельефа (при этом фоны оставались гладкими). Затем, уже по поверхности выложенного камня, производили орнаментирование низа стен, полуколонн, пилястр и т. п., а также орнаментирование фона верхних фигурных композиций. Узор рисовали, потом процарапывали. Лишь после этого выбирали его фон, резали вглубь детали орнамента и, наконец, скругляли его контуры. Подобный способ работы еще в большей мере сближал рельефы с изделиями из драгоценных металлов, которые, без сомнения, были использованы в Юрьеве-Польском как образцы. Наряду с работами ювелиров подвизавшиеся в Георгиевском соборе мастера использовали также мотивы из восточных шелковых тканей и византийских миниатюр и поделок из слоновой кости. Так, например, украшения пилястр южного притвора, где в переплетающихся дугах изображены различные животные, явно навеяны византийскими тканями (ср. шелковые ткани в Браунвейлере, Утрехте и Сигбурге2). Влиянием тканей следует объяснить и восточный характер некоторых животных (птиц, грифонов, слона). Христианские сюжеты чаще всего почерпнуты из миниатюр, иконографические схемы которых подвергнуты последовательному изменению. Бросается в глаза сильнейшее обрусение лиц, приобретших ярко выраженный национальный отпечаток (особенно явственно это проступает в изображении Христа). Оригинальная творческая переработка чужеземных образцов всюду дает о себе знать с необычайной силой. И здесь ясно чувствуется живая струя народного творчества, под воздействием которой церковные образы утрачивают традиционный аскетизм и суровость и наполняются новым жизненным содержанием. Владимиро-суздальская пластика занимает совсем особое место в истории средневековой скульптуры. Хотя в ее сложении сыграли свою роль восточные, византийские и западные элементы, тем не менее ни на Востоке, ни в Византии, ни на Западе мы не найдем ни одного памятника, который хотя бы в отдаленной степени повторял то, что было создано руками русских мастеров. Крайне самостоятельно и смело обошлись они с унаследованными ими художественными ценностями, претворив последние в абсолютно новый синтез, новый не только по идейному содержанию, но и по средствам выражения. И если романская скульптура на Западе стихийно развивалась в сторону обособления фигуры от стены, что нашло наиболее яркое выражение в ранней готике (вторая половина XII - первая треть XIII в.), то на Руси художественная эволюция протекала в обратном направлении. Тяжелый высокий рельеф, таивший в себе возможность перерождения в круглую скульптуру, был переведен русскими мастерами на язык деревянной резьбы, а затем подчинен тому орнаментально-плоскостному началу, которое всегда так ценилось древнерусским художником сего любовью к узорочью. Тем самым круглая скульптура лишилась необходимых для ее успешного развития предпосылок. Это своеобразное явление можно особенно хорошо изучить на примере рельефов Георгиевского собора. Когда сопоставляешь его колончатый пояс с аркатурным фризом в Нотр Дам ла Гранд в Пуатье и церкви в Рюффеке (Шарант)1, делается очевидным совсем иной подход русского художника к пластике. Слон и маска. Настенные рельефы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 1230- 1234 годы. В обоих французских памятниках объемные фигуры расположены в настолько глубоких нишах, что воспринимаются почти как статуи. Это впечатление усиливается еще тем, что фигуры стоят на горизонтальных постаментах. Следующий этап развития неизбежно должен был привести к рождению готической круглой скульптуры. Совсем по-иному трактованы фигуры в Юрьеве-Польском. Не говоря уже о том, что здесь даны очень неглубокие ниши, фигуры стоят не на горизонтальных постаментах, а на плоских, вертикально расположенных полудисках, явно копирующих детали каких-то миниатюр. К тому же фигуры кажутся не округлыми, а плоскими, поскольку они целиком подчинены плоскости стены. Из такого понимания пластического образа логически вытекала победа рельефного принципа над статуарным. Ведущим типом скульптуры суждено было сделаться на Руси барельефу. Статуи создавались и у нас в большом количестве, но вплоть до XVIII века они не играли той исключительной роли, какая принадлежала им в готической, ренессансной и барочной пластике. На Руси место статуи заступил плоско трактованный рельеф. Ему принадлежало будущее. И в руках древнерусских художников он сделался совершенным средством для выражения их мыслей и чувств. 3. ЖИВОПИСЬ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ РУСИ Уже в первой четверти XII века у Владимиро - Суздальской Руси установились культурные связи с Киевом. Известно, что Владимир Мономах привез в Ростов икону богоматери, принадлежавшую кисти прославленного Алимпия. К киевским художественным традициям восходит случайно уцелевший фрагмент росписи собора в Переяславле-Залесском. Фрагмент этот, с изображением головы апостола, ныне хранится в Историческом музее; он входил в свое время в состав обширной композиции "Страшного суда", украшавшей своды под хорами. Вероятно, роспись Переяславского собора возникла в конце 50-х годов XII века. Дошедший до нас фрагмент настолько случаен, что не позволяет составить даже отдаленное представление об одном из древнейших этапов в развитии владимиро-суздальской живописи. В 1155 году Андрей Боголюбский, ушедший от своего отца из Киева в родовую Суздальскую землю, взял с собою икону из Вышгорода. Это был прославленный образ, привезенный из Царьграда. Вероятно, он рассматривался Андреем как символ великокняжеской власти, как своего рода палладиум Русского государства. Недаром Андрей богато украсил его золотом, серебром, дорогими каменьями и жемчугом, недаром он брал его с собою в военные походы, недаром приписывал ему свои победы. 26 августа 1395 года икона была принесена в Москву. Она попала в Москву в тот самый день, когда грозный Тамерлан повернул со своими войсками назад из Руси. С этого момента икона приобрела необычайную популярность у народа. Она сделалась известной под именем "Владимирской богоматери". По счастью, этот замечательный памятник цареградского мастерства, пережив все превратности судьбы, дошел до нас. Раскрытые, в результате умелой реставрации, лица Марии и Христа (а только они и сохранились от первоначальной живописи) отличаются таким совершенством исполнения, что образ "Владимирской богоматери", ныне хранящийся в Третьяковской галлерее, может быть смело причислен к шедеврам мирового искусства Мария и Христос изображены в том иконографическом типе, который получил на Руси поэтическое название "Умиления": младенец обнял шею матери, он нежно прижался к ее щеке. Лицо Марии полно печали. Мария как бы предчувствует трагическую участь, ожидающую ее сына. Мастеру удалось передать здесь глубоко человеческое переживание. Именно в этом и кроется причина столь сильного художественного воздействия иконы. Мария глядит на Зрителя, и глаза ее выражают великую скорбь. Эти глаза в первую очередь приковывают к себе внимание, они трогают и волнуют, вызывая глубочайшее сочувствие к страданию матери. Художник искусно подчеркнул выразительность глаз, облегчив все черты лица - тонкий, слегка изогнутый нос, бесплотные губы, изящно очерченные брови. Вот почему эти глаза воспринимаются как идейный и композиционный центр иконы. Они придают лицу изумительную эмоциональную выразительность. Исполнение лиц Марии и младенца отличается большой мягкостью и живописностью. Выдержанное в теплых оливково-зеленых тонах лицо богоматери, оживленное несколькими энергичными ударами красного, противопоставлено светлому лицу Христа, написанному в более свободной манере. Художник объединил здесь белые, зеленые и красные краски, которые наложены густыми мазками, несколько напоминающими энкаустическую технику. Благодаря тому, что теням придана замечательная прозрачность, переходы от тени к свету лишены всякой резкости. В этих живописных приемах, воссоздающих рельеф благодаря тончайшей красочной лепке, нетрудно усмотреть прямую преемственную связь с традициями эллинистической живописи. Андрею Боголюбскому, остановившему свой выбор на иконе "Владимирской богоматери", посчастливилось вывезти из Киева в свой родной Владимир произведение исключительно высокой художественной ценности, которое было им умело использовано в политических целях. С именем Андрея Боголюбского связана еще одна икона. К сожалению, в настоящем своем виде она представляет собой жалкую руину. Это икона "Бого-любской богоматери", написанная по заказу великого князя. Согласно легендарному преданию, икона была создана в память явившегося Андрею во сне видения (в 1158 г.). В летописи Боголюбова монастыря очень образно рассказывается, как Андрею "явися сама пресвятая богородица, теплая о всем мире предстательница, очевидно в шатре его стоящая и в единой руце хартию держащая, и рече ему: "не хощу, да образ мой несеши в Ростов [речь идет о знаменитой иконе "Владимирской богоматери", которую Андрей Боголюбский вез в Ростов], но во Владимире постави его, а на сем месте во имя моего рожества церковь каменную воздвигни". Легенда повествует, что выполняя наказ богоматери, Андрей "призва же искуснейших изографов и повеле образ пресвятыя богородицы таковым подобием, яко же ему явися, написати; изографи же написавше образ пресвятыя богородицы тако, яко же повеле им, и принесоша к нему; он же, видев образ той, и пад на землю, моляся со слезами, благодарствующп бога, и скорую свою помощницу, всех же уверяющи, яко таковым подобием виде явлшуюся ему владычицу". В 1159 году Андрей Боголюбский повелел "пришедшим другим иконописцем из других земель, оную пресвятыя богородицы церковь внутрь стенным иконописанием лепотне украшати"1. В 1161 году эта роспись была уже закончена. В своем описании разрушения Боголюбовской церкви Аристарх добавляет, что роспись принадлежала греческим мастерам2. На Боголюбской иконе Мария представлена стоящей. В одной руке она держит свиток, другую подняла в молении, обращаясь к Спасу, чья полуфигура изображена в правом верхнем углу. На верхнем поле иконы помещены полуфигуры Христа, богоматери, Предтечи и двух ангелов, которые входят в состав композиции "Деисуса". Мария выступает заступницей за род человеческий и за заказчика иконы. Мы имеем здесь обетный образ. Насколько позволяют судить сохранившиеся фрагменты, Боголюбская икона представляла собой выдающееся произведение искусства, довольно близкое по стилю к иконе "Владимирской богоматери". Была ли эта вещь исполнена византийским мастером или русским иконописцем, в пользу чего говорит развитой тип композиции "Деисуса", сказать в настоящее время крайне трудно, так как икона находится в очень плохой сохранности. Во всяком случае одно ясно - это памятник исключительно высокой художественной ценности. Ко времени княжения Андрея Боголюбского относится еще один живописный памятник - остатки росписей 1161 года в аркатуре северной наружной стены владимирского Успенского собора. После перестройки храма Всеволодом эта наружная северная стена сделалась внутренней стеной северного нефа. Между колонками аркатурного пояса было открыто несколько фигур стоящих пророков и два павлина с орнаментом, обрамляющих окно. Фрески выдают руку опытного мастера, уверенно владевшего кистью. Особый интерес этих фресковых фрагментов заключается в том, что они с несомненностью устанавливают факт росписи наружных стен андреевского храма. Фигуры пророков выступали в свое время в золотом обрамлении, так как колонки аркатурного пояса были позолочены. Эта богатая полихромная декорация не могла быть единственным памятником подобного рода на владимиро-суздальской почве. Невидимому, обычай украшать фасады церквей фресками был широко распространен в древней Руси, и лишь гибелью многочисленных памятников следует объяснять полное отсутствие таких фасадных росписей. В свое время купол церкви Покрова на Нерли хранил остатки старой росписи, которые еще видел Ф. Г. Солнцев и от которых теперь не осталось никаких следов. В куполе был изображен Пантократор между четырьмя архангелами и четырьмя серафимами; над окнами барабана шел фриз, составленный из медальонов с полуфигурами апостолов (?); в простенках барабана были представлены стоящие в трехлопастных арках святые. Медальоны соединялись друг с другом при помощи петель. Эта несколько необычная декоративная система, отличающаяся большой дробностью членений, стоит особняком среди памятников древнерусской монументальной живописи. Преемник Андрея Боголюбского, Всеволод Большое Гнездо, был хорошо знаком с византийской культурой. Юные годы Всеволод провел в Константинополе, где он, вероятно, научился ценить красоту греческого культа и искусства. Византия же показала ему воочию, как искусство может быть использовано в чисто политических целях - в целях окружения ореолом блеска государственной власти. Увлечение византийской культурой простиралось и на ближайших родственников Всеволода: его сын Константин прекрасно говорил по-гречески, а его брат Михаил основал во Владимире, помимо школы, в которой обучали русские и греческие монахи, также и библиотеку, хранившую свыше тысячи греческих рукописей1. В этой великокняжеской среде должны были находить живой отклик произведения византийского мастерства. Поэтому становится вполне понятным участие константинопольского живописца в исполнении фресок построенного Всеволодом Дмитриевского собора. Этот живописец работал бок о бок с русскими художниками, которые помогли ему создать замечательный ансамбль. От некогда обширного фрескового цикла сохранились росписи лишь большого и малого сводов под хорами. Дважды реставрированные, они были расчищены в 1918 году, во время экспедиции Всероссийской реставрационной комиссии. Дошедшие до нас фрески изображают "Страшный суд". На большом своде представлены двенадцать сидящих апостолов со стоящими позади них ангелами, на малом своде - "Рай" с восседающей на троне богоматерью, ангелом, Авраамом, Исааком и Иаковом, а также "Шествие праведников в рай", возглавляемое апостолом Петром и замыкаемое двумя трубящими ангелами. В основном росписи исполнены греческим мастером, но ему помогали, несомненно, русские живописцы, чьей кисти можно предположительно приписывать ангелов северного склона большого свода и сопровождаемые русскими надписями фрески малого свода. Двенадцать апостолов и ангелы южного склона, написанные греческим мастером, обнаруживают руку выдающегося художника. Он изобразил апостолов в свободных, непринужденных позах, как бы разговаривающими друг с другом. Их головы повернуты в различных направлениях, их фигуры даны в сложных поворотах, их одеяния ложатся разнообразными складками, всякий раз образующими новые линейные сочетания. В умелом расположении складок чувствуются живые отголоски эллинистических статуарных мотивов. Одеяния изящно облегают фигуры, обрисовывая красивые, пропорционально сложенные тела. Все движения исполнены грации и легкости. Особенно ритмичны наклоны голов, вносящие большое оживление в общую композицию группы, лишенную всякой застылости и статичности. Вместо обычного рядоположения фронтальных фигур, работавший в Дмитриевском соборе греческий мастер создал сложную, проникнутую мерным движением группу, которую зритель воспринимает как собрание умудренных опытом мужей, ведущих тихую, сосредоточенную беседу. Каждая из фигур получила чисто портретную характеристику, достигающую особого мастерства в лицах, где сквозь черты твердо отстоявшегося иконографического канона проступают настолько индивидуальные оттенки, что лица эти приобретают изумительную жизненность. В них своеобразно сочетаются тонкая одухотворенность с прекрасной телесной оболочкой, несущей на себе печать античных традиций. Головы ангелов. Деталь росписи южною склона большого свода Дмитриевского собора во Владимире. Конец XII века. Фигуры апостолов и ангелы южного склона поражают необычайным мастерством исполнения. Особенно красив колорит росписей. Нежные, светлые краски образуют мягкую гамму, построенную на полутонах. Голубые, светло-зеленые, синевато-стальные тона чередуются с светло-коричневыми, лиловыми, коричневато-красными, зеленовато-желтыми. В одеяниях широко применяются переливчатые переходы, среди которых особенно эффектно сочетание зеленого с фиолетовым. Поскольку главный акцент поставлен на лицах, мастер уделил им наибольшее внимание. Они написаны с изумительной легкостью и артистизмом. Мазки безошибочно идут по форме то широкими плавями, сходящими на нет, то ясно ограниченными неширокими полосами (например, около ноздрей или ниже глазной впадины), то резко очерченными ударами кисти, разбрасываемыми с необычайной уверенностью и силой. Эти сочные белые блики, наложенные поверх зеленоватой карнации, лепят форму, придают ей рельеф, препятствуют ее растворению в плоскости. Ими мастер владеет с удивительным совершенством. В отличие от итальянских художников XIV века он строит форму не светотеневой моделировкой, а при помощи красочной лепки. Его живописная формула абсолютно едина: он рисует кистью, и рисунок у него неотделим от ее работы. Вместо того чтобы сначала рисовать, а потом раскрашивать, он сразу пишет кистью, полагаясь на свое безупречное чувство формы. И это чувство его никогда не обманывает. В Дмитриевском соборе можно провести довольно четкую демаркационную линию между работой заезжего греческого мастера и работой его русских выучеников. Последним принадлежат ангелы северного склона большого свода и росписи малого свода. Здесь нашло себе место то же сотрудничество, которое мы уже наблюдали в Киеве - в Софии и в Михайловском монастыре. Но если там русским мастерам поручалось выполнение росписей отдельных частей храма, то во Владимире (и это особенно интересно для восстановления процесса совершенствования древнерусских художников) местные живописцы привлекались к более тесному сотрудничеству: греческий мастер доверял им, в целях ускорения работы, писать фигуры в таких композициях, которые в основном были сделаны им самим. Вероятно, подобная практика широко применялась на Руси, в частности в Киеве, где подвизалось немало греческих художников. Этот метод работы должен был, естественно, способствовать сближению манеры письма учителя и ученика. Вот почему так трудно иногда решить вопрос о принадлежности старой фрески либо иконы греческому или русскому мастеру. Связь между учителем и учеником обычно бывала настолько тесной и органичной, что это крайне затрудняет распознание их индивидуального почерка. В этом отношении росписи Дмитриевского собора являются счастливым исключением. По сравнению с тонкими лицами ангелов южного склона, лица ангелов противоположной (северной) стороны более открытые и непосредственные: напряженный византийский психологизм уступил в них место гораздо большей интимности. Овал лица утратил преувеличенную тонкость и изящество, свойственные лицам ангелов южного склона. Он приобрел более земной, более округлый и массивный характер. Нос стал тяжелее, глазные впадины уменьшились, брови выпрямились. В результате всех этих изменений греческий тип лица оказался вытесненным славянским, подсказанным самой жизнью. Соответственно изменились приемы живописной обработки формы. Трактовка сделалась менее объемной и более графической. Свободные сочные блики сменились линейными движками, аккуратно положенными поверх карнации; сама карнация стала ровнее по цвету, пряди волос приобрели линейную стилизацию. Так русский художник, хотя и выученик грека, подверг коренной переработке все позаимствованное им от учителя. Росписи малого свода тоже следует приписать русским мастерам. Липа праведных жен, с их ярко выраженными славянскими чертами, очень близки к лицам ангелов северного склона. Более греческим характером отличаются лица апостола Петра и трубящих ангелов, по и в них дает о себе знать столь типичная для русского мастера тяга к узорочью. Вероятно, русским же художником был выполнен "Рай" на противоположном склоне, изображенный в виде прекрасного сада с богатой растительностью. Фигуры Иакова, Авраама, Исаака, сопровождаемые славянскими надписями, обнаруживают более линейный стиль, нежели фигуры апостолов; к тому же их лица лишены византийской суровости. Более свободно написанные фигуры богоматери и ангела также не могут быть приписаны греческому мастеру. Таким образом, фрески малого свода, невидимому, целиком принадлежат русским художникам, принимавшим деятельное участие в декорировании Дмитриевского собора. Роспись Дмитриевского собора в своем целом - интереснейший памятник русской живописи. Она не только наглядно повествует о том, как русские мастера сотрудничали с греческими, но бросает также яркий свет на то, в каком направлении перерабатывали русские художники византийское наследие. Сознательно порывая с византийским спиритуализмом, русские живописцы стремились к более земному, к более реалистическому искусству. Они не боялись вводить в церковные росписи богатую растительность, делающую столь привлекательным их райский сад, они облачили праведных жен в славянские одеяния, они придали лицам святых и ангелов национальный отпечаток. Так, под прямым воздействием окружавшей их жизни, они насытили канонические формы новым содержанием, в котором русские черты заявили о себе с необычайной настойчивостью. Другой памятник монументальной живописи времени Всеволода III - фрески вновь отстроенного Успенского собора - дошел до нас в настолько фрагментарном состоянии, что было бы крайне рискованно делать на его основе какие-либо далеко идущие выводы. Сохранились лишь две большие фигуры Аввакума и неизвестного святителя за иконостасом (у его северного и южного краев), а также фигуры Артемия и Авраамия, украшающие арки в юго-западном углу собора, при переходе от стройки Всеволода к стройке Андрея Боголюбского. Последние две фигуры, сопровождаемые остатками древних греческих надписей, вписаны в орнаментированные арочки. К сожалению, все фрески находятся в очень плохой сохранности из-за осыпающейся живописной поверхности. Лучше других сохранилась фигура неизвестного святого за иконостасом, в светлозеленой одежде, с густыми белильными и жидкими красноватыми пробелами, нанесенными уверенной рукой и обличающими незаурядное мастерство. Несмотря на наличие греческих надписей, манера исполнения и типы лиц указывают на принадлежность этих фресок, возникших, вероятно, около 1189 года, русским мастерам, примкнувшим к киевским традициям1. Голова апостола Марка. Деталь росписи северного склона большого свода Дмитриевского собора во Владимире. Конец XII века. Некоторую общность с фрагментами Успенского собора обнаруживают недавно раскрытые фрески в церкви Бориса и Глеба в Кидекше. Наиболее крупный из расчищенных фрагментов украшает нишу северной стены. Под этой нишей должна была находиться белокаменная гробница Марии - вдовы князя Бориса, сына Юрия Долгорукого. На фреске изображены в рост две монументальные женские фигуры в окружении райских деревьев и священных птиц. Справа мы видим соименную жене Бориса мученицу Марию, облаченную в темносиний хитон, коричнево-красный мафорий и красную обувь, а слева - жену Юрия Долгорукого Евфросинию в роскошной императорской одежде. Евфросиния была византийской принцессой из дома Комнинов, чем и объясняется ее царственный наряд. Посередине возвышается кипарисоподобная пальма, которая окружена маленькими пальмами, усыпанными красными плодами. По сторонам фигур также виднеются пальмы, а рядом с ними представлены небольшие деревца с сидящими на них двумя павлинами. Композиция, с ее тяжеловесными формами, массивными силуэтами и малиново-красными тонами одежд и темно-оливковыми тонами зелени, четко вырисовывается на белом фоне. Помимо этого фрагмента, были открыты остатки и других композиций ("Отречение Петра", "Три отрока в пещи огненной", "Успение"; весьма примечательно, что последняя сцена включала в себе фигуру летящего апостола). Над хорами находилось, возможно, изображение райского сада, от которого уцелели деревья и птицы. Наконец, были расчищены две прекрасные фигуры всадников и полотенца, украшенные семисвечниками и деревьями. Н. П. Сычев склонен усматривать в фигурах всадников одно из древнейших изображений Бориса и Глеба, но против этой гипотезы говорит отсутствие нимбов, княжеских шапок и бороды у предполагаемого Бориса. Несмотря на фрагментарность расчищенных кусков живописи, можно все же сделать один общий вывод. Кидекшская роспись привлекает к себе внимание отступлением от канонической церковной системы. Такие детали, как изображение райского сада на хорах, где во время богослужения пребывала великокняжеская семья, или наличие весьма свободно трактованных изображений деревьев на полотенцах, говорят о том, что работавшие здесь мастера не очень считались с требованиями духовенства. По мнению Н. П. Сычева, эти мастера принадлежали к киевской, или, точнее говоря, к черниговской школе, о чем свидетельствует близость стиля кидекшских фресок к росписи так называемой "Юрьевой божницы", исполненной между 1098 и 1152 годами. Наиболее вероятное время возникновения фресок - 80-е годы XII века. На владимиро-суздальской почве сохранился еще один памятник монументальной живописи, относящийся к несколько более поздней эпохе. Это недавно раскрытые фрески в диаконике суздальского собора, точно датируемые 1233 годом1. Апсида диаконика была в свое время богато орнаментирована. В этом, несомненно, сказалось проникновение в церковную роспись декоративных мотивов народного творчества. Дошедшие до нас фрагменты напоминают орнаментацию медных врат суздальского собора. На северной и южной пилястрах апсиды расчищены две головы святых старцев, отличающиеся тонкостью исполнения. Старцы представлены в рост, причем фигуры их вписаны в орнаментированные арки. Лица - суровые, аскетические. Строгий, точный рисунок, мягкие охристые высветления, отсутствие резких светотеневых контрастов, столь излюбленных новгородскими живописцами, - все это накладывает на оба лица отпечаток особой сдержанности. Ни в одной русской росписи позднего XII - раннего XIII века мы не найдем близкой стилистической аналогии этой манере письма. Поскольку фрески суздальского собора входят в круг предпринятых епископом ростовским Кириллом больших работ по украшению храмов, есть все основания приписывать фрески ростовским либо суздальским мастерам. Торжественно посвященный в Киеве (1231) епископ Кирилл украсил в том же году иконами, пеленами, кивотами, сосудами, крестами, златыми дверями и множеством всяких узорочий ростовский собор2; в 1233 году был расписан суздальский собор; в 1234 году окончен и отделан собор в Юрьеве-Польском. Вероятно, все эти крупные начинания осуществлялись одной и той же артелью живописцев, и можно думать, что работавшие в Суздале мастера пришли из Ростова, где они незадолго до того украшали местный собор. В результате блестящих открытий советских ученых и реставраторов у нас есть теперь возможность ознакомиться с владимиро-суздальской иконописью, о которой еще до недавнего прошлого мы ничего не знали. Расчищенные после Октябрьской революции старые прославленные иконы оказались в большинстве случаев выдающимися произведениями искусства. Некоторые из них дошли до нас в мало поврежденном виде, чему порою способствовали сплошные слои записей, сохранившие от порчи и выцветания первоначальную живопись. Среди этих икон многие происходят из Ростово-Суздальской земли. Хотя они не образуют четкой стилистической группы, которая позволяла бы говорить о ростово-суздальской школе как обладающей своим ярко выраженным индивидуальным лицом, тем не менее эти иконы все же имеют нечто общее. Во всяком случае они достаточно сильно отличаются от икон новгородской школы, и это позволяет выделить их в самостоятельную группу. Древнейшим памятником владимиро-суздальской станковой живописи является великолепный оглавной "Деисус" из Успенского собора в Москве, куда он мог попасть, в числе других привезенных для обновления икон, из Владимира1. Юный Христос (так называемый Спас Еммануил) представлен между двумя ангелами, слегка склонившими к нему головы. Тонкие, изящные лица ангелов выражают глубокую скорбь. Они как бы навеяны поэтическим образом "Владимирской богоматери". Ближайшие аналогии эти ангелы находят себе в ангелах большого и малого сводов Дмитриевского собора2. Эта аналогия, подкрепляемая сходством Еммануила с символизирующими души праведников детьми из "Рая"3, настолько убедительна, что позволяет связать "Деисус" стой мастерской, которая расписывала Дмитриевский собор. "Деисус" был, вероятно, выполнен в 90-х годах XII столетия. "Деисус" из Успенского собора имеет необычную для икон форму: это очень широкая и довольно низкая доска. При взгляде на нее невольно создается впечатление, что она была расположена в виде украшения над какими-то дверьми. Действительно, в свое время икона входила в состав алтарной преграды, являясь той первичной ячейкой, из которой развился позднейший иконостас. В византийских храмах отсутствовал столь распространенный в русских церквах иконостас4. Его заменяла простая алтарная преграда, по-видимому, восходившая к тем решеткам, которые в античных базиликах ограждали помещения судей и их писцов. Ранние алтарные преграды были очень низкими, так что на них можно было облокачиваться. Они делались из дерева или камня и представляли собой либо глухую стенку, либо балюстраду, состоявшую из изящных точеных балясин. Первый тип преграды привился на Востоке, второй - на Западе. Существовали также алтарные преграды в виде ряда колонн, которые несли архитрав. На Западе алтарная преграда, удержавшая свою первоначальную форму, не получила развития и в дальнейшем совсем отпала; на Востоке, наоборот, она начала усложняться и постепенно превратилась в иконостас. Праведные жены. Деталь росписи северного склона малого свода Дмитриевского собора во Владимире. Конец XII века. Уже император Юстиниан усложнил форму преграды (двенадцать колонн - по числу апостолов, три входа, рельефные украшения на антаблементе под архитравом). Покоящийся на колоннах архитрав греки называли космитисом. Этот архитрав, или космитис, и явился, строго говоря, основой иконостаса. Первоначально на нем высекали крест, либо на него ставили крест. Византийский император Василий Македонянин (867-886) приказал украсить архитрав изображением Христа. Позднее иконы Христа начали ставить на архитрав. Их писали на отдельной доске, размер которой зависел от количества изображений. Чем их было больше, тем более вытянутую форму имела такая доска. Этот деревянный щит сохраняется у греков в их иконостасе до настоящего времени. Он называется "темплон" (отсюда происходит русское название "тябла"). По-видимому, первоначально темплоном именовали самый архитрав, а позднее под ним стали подразумевать стоящий на нем щит с иконами. Название "темплон" удержалось у греков для обозначения всего иконостаса. Древние темплоны, заключавшие изображение "Деисуса", помещались только над средним пряслом, где находились царские двери. Позднее они начали расширяться, включая в себя ряд дополнительных полуфигур. Уже у византийцев под темплоном появился новый ряд икон, писанных на отдельных досках. Ряд этот состоял из двенадцати икон месячных (лицевых святцев) и из икон двунадесятых праздников, получивших название поклонных. Поклонными их называли потому, что икона текущего месяца и очередного праздника снималась со своего места и ставилась на аналое для поклонения. Эти поклонные иконы, вошедшие в обиход с XI века, не сразу сделались необходимой принадлежностью всех церквей, а долгое время находились лишь в некоторых из них. Только на более поздних этапах развития они стали неотъемлемой частью алтарной преграды. Форма алтарной преграды была перенята русскими от византийцев. Но то, что греки называли темплоном, русские люди долгое время именовали "Деисусом". По-видимому, это название произошло от главной и древнейшей иконы темплона, изображавшей Христа с предстоящими по сторонам богоматерью и Предтечею ("Деисус" по-гречески означает моление или прошение). Такая икона помещалась, как уже отмечено, над центральной частью алтарной преграды, иначе говоря - над царскими вратами1. И такую икону мы имеем как раз в лице "Деисуса" из Успенского собора, где богоматерь и Предтеча заменены изображением ангелов. Можно без преувеличения сказать, что эта замечательная икона служит исходной точкой того длительного процесса, который завершился созданием на русской почве развитои формы иконостаса. "Деисус" воплощает идею заступничества: богородица и Предтеча молят Христа о прощении грехов человеческих2. Не случайно среди "украшающих" эпитетов божьей матери одно из видных мест занимает наименование "Надежда отчаявшихся". Сделавшись неотъемлемой частью композиции "Страшного суда", "Деисус" получил широкий отклик в народной поэзии: в стихе о "Страшном суде" богородица и Иван Предотеч (или Иван Богослов) умоляют Христа о прощении людей, а в другом стихе упоминаются три гроба или три свечи, горящие перед теми же лицами. Сопоставление Предтечи с богородицею как ходатаев обосновывается и древнейшими текстами литургий. Весьма показательно, что в популярнейшем на Руси апокрифе "Хождение богородицы по мукам" Мария выступает центральным действующим лицом, которое вымаливает грешникам временное прекращение мук. Идейный смысл композиции "Деисуса" не подлежит сомнению. Эта композиция символизировала идею заступничества. Вот почему она приобрела такую широкую популярность в средние века, когда феодальный гнет ложился настолько тяжелым бременем на плечи трудящихся, что в их глазах "Деисус" как бы воплощал последнюю "надежду отчаявшихся". Мы имеем здесь дело со своеобразной формой средневековой религиозной утопии, вбиравшей в себя социальные чаяния широких масс. Уже в киевской Софии "Деисус" фигурирует над триумфальной аркой. Эта выполненная в моэаической технике композиция состоит из трех медальонов. Вероятно, она заменяла здесь еще отсутствовавший на алтарной преграде "Деисус". Этот иконографический тип был довольно широко распространен в Киевской Руси, иначе мы не встречали бы его так часто на эмалях1. В Печерском патерике рассказывается о том, как некий боголюбец, построивший домовую церковь, заказал для нее Алимпию пять больших икон "Деисуса"2. Поскольку последние были предназначены для украшения одной церкви, есть основания думать, что в патерике идет речь о такой деисусной композиции, которая уже распалась на пять отдельных частей. Применялись ли написанные на отдельных досках "Деисусы" в Киевской Руси или они появились только в XIII веке, когда сложилось основное ядро Печерского патерика, в настоящее время не представляется возможным решить из-за отсутствия соответствующих памятников киевской станковой живописи. Можно определенно утверждать, что нигде изображение "Деисуса" не пользовалось такой исключительной популярностью, как во Владимиро-Суздальской Руси3. Если в Новгороде любили помещать на иконах "престол уготованный" (так называемая "Этимасия"), то в Залесье предпочитали денежный чин. Уже на иконе "Боголюбской богоматери" встречается развитая дёисусная композиция: полуфигура Христа дана здесь между полуфигурами богородицы, Предтечи и двух ангелов. Над северным порталом Дмитриевского собора также находится "Деисус", состоящий из трех полуфигур4. Но наиболее широкое применение этот иконографический тип получил в рельефах Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Мы находим его здесь на восточной стене (голова Спаса между полуфигурами богоматери и Предтечи)5 и, в особенно развитой форме, на западной стене, где он украшал в свое время аркатурный фриз. На этой западной стене представлен был, строго говоря, деисусный чин, так как в его состав входили разбросанные после перестройки по всем фасадам фигуры Христа, богоматери, Предтечи, архангелов и апостолов6. Это была сложная композиция, предвосхищавшая строгой центричностью своего построения позднейшие живописные решения. Наконец, деисусный чин с двумя архангелами фигурирует и на стенах колокольни в Юрьеве-Польском. Столь частое использование интересующей нас композиции на памятниках владимиро-суздальского круга наглядно говорит о том, что именно в Залесье с его самобытным укладом жизни усиленным темпом протекал тот процесс кристаллизации новой, русской иконографии, который начался уже в Киевской Руси. "Деисус" был хорошо известен и византийцам, но лишь на русской почве он приобрел значение господствующего иконографического мотива, что нашло наиболее яркое выражение в композиции иконостаса. К владимиро-суздальскому кругу тяготеет еще один оглавной "Деисус", также происходящий из московского Успенского собора. Стилистически он никак не связан с первым "Деисусом", но, подобно ему, был предназначен для украшения алтарной преграды. Христос представлен между богоматерью и Предтечей. В отличие от иконы с Еммануилом и ангелами, лица лишены тонкой одухотворенности. Исполнение их обнаруживает руку гораздо менее искусного мастера, работавшего в довольно архаической манере. Стиль этой иконы, возникшей, вероятно, в начале XIII века, стоит несколько особняком среди произведений древнерусской живописи. Голова ангела из оглавного "Деисуса". Владимиро-суздальская школа. Конец XII века. Гос. Третьяковская галерея. Вне всякого сомнения, и этот "Деисус" являлся в свое время темплоном, будучи расположен над царскими вратами алтарной преграды. То, что такие де-исусные иконы были известны во Владимире, находит подтверждение в известии об убийстве Андрея Боголюбского1. Здесь говорится, что в боголюбовской Рождественской церкви Андрей устроил сень, или навес под алтарной аркой, от ее верха и до "Деисуса". Следовательно, последний был укреплен на алтарной преграде и отделен довольно значительным расстоянием от вершины алтарной арки. "Деисус" упоминается и в летописи Боголюбова монастыря под 1158 годом: "Понеже сей благочестивый князь Андрей Георгиевич всегда с собою в пути святыя иконы при себе имяше: первую - господа Иисуса Христа Вседержителя, вторую - пресвятыя богоматере, третию - Иоанна Крестителя, две - святых первоархангелов Михаила и Гавриила"2. Очевидно, речь идет о деисусной композиции, но такой, которая уже распалась на отдельные иконы. Оглавной "Деисус". Владимиро-суздальская школа. Начало XIII века. Гос. Третьяковская галерея. Лицо Христа из второго "Деисуса" отдаленно напоминает лицо Дмитрия Солунского на замечательной одноименной иконе в Третьяковской галерее в Москве. Эта среброфонная икона происходит из собора города Дмитрова. Она сильно пострадала от времени. Лучше всего сохранилось лицо, подкупающее выражением торжественного величия. Глаза, брови, нос, усы, рот, овал лица очерчены тяжелыми линиями, положенными поверх зеленовато-белой карнации с просвечивающими плотными зелеными тенями. Линии эти проведены настолько симметрично, что образуют почти орнаментальную по своей строгой уравновешенности композицию. Художник, видимо, хотел подчеркнуть душевную стойкость воителя и его бесстрашие. Дмитрия Солунского он изобразил восседающим на троне, с мечом в руках. Хотя этот иконографический тип является традиционным (ср. рельеф из Сан-Марко в Венеции)1, тем не менее художнику удалось воплотить в образе Дмитрия древнерусский воинский идеал. Монументальная, спокойная фигура полна силы, в жесте правой руки, вынимающей меч из ножен, чувствуется огромная внутренняя собранность. Поскольку на иконе Дмитрия был обнаружен княжеский знак собственности Всеволода, который украшает спинку трона, есть основания думать, что икона была пожертвована великим князем Всеволодом собору в Дмитрове2. Тем самым определяется время ее возникновения (конец XII-начало XIII века), что подкрепляется и вышеупомянутой стилистической аналогией. Икона Дмитрия Солунского принадлежала к разряду настенных или настолпных икон, которые ставились в киотах у продольных стен церкви (северной и южной) и у подкупольных столбов. На этих больших по размеру иконах обычно изображались особенно почитаемые местные святые. На праздники к таким иконам подвешивались пелены, сделанные из дорогих разноцветных тканей. Дмитрий Солунский пользовался особой популярностью в Солуни, на Афоне и в балканских странах. В этой связи интересно летописное свидетельство, согласно которому в 1196-1197 годах во Владимир была принесена "доска святого Дмитрия из Селуня града, со гроба его"; по прибытии во Владимир доска была водворена Всеволодом в Дмитриевском соборе3. На основе этого показания летописи можно сделать вывод, что иконы Дмитрия Солунского, который рассматривался как покровитель воинства, были широко использованы и во Владимиро-Суздальской Руси. С Владимиром следует связывать еще одну икону, ныне хранящуюся в местном музее, в свое же время находившуюся в Успенском соборе, над гробницей митрополита Максима. Как читается в надписи над гробницей, икона была написана в память "видения", явившегося Максиму в 1299 году, когда он решился перенести кафедру митрополии из Киева во Владимир4. На иконе изображена богоматерь в рост. Она держит на руках младенца, у ног ее стоит митрополит Максим, принимающий омофор. В настоящем своем виде икона представляет руину. Однако незначительные остатки старой живописи свидетельствуют о поразительной красоте первоначального лика, несколько напоминающего сочностью своих форм лицо Марии из "Устюжского благовещения". Имеем ли мы здесь, как это полагает И. Э. Грабарь, старую киевскую икону, частично реставрированную во Владимире и дополненную фигурой заказчика, сказать трудно, так как икона дошла до нас в крайне фрагментарном виде5. Несколько иллюстрированных рукописей XII-XIII веков могут быть связаны с владимиро-суздальской школой. В большинстве случаев это тяжелые, монументальные книги. Древнейшими среди них являются два манускрипта в Историческом музее в Москве, относящихся еще к XII столетию и, по-видимому, происходящих из библиотеки ростовского епископа Кирилла Г. Это "Евангелие учительное Константина Болгарского" (Патр. 262) и "Слово Ипполита, папы римского, об Антихристе"1. Миниатюра первой рукописи, изображающая Бориса Болгарского (русский рисовальщик добавил наивную подпись - Борис Глеб), сохранилась хорошо; миниатюра же второго манускрипта, также списанного с болгарского оригинала, дошла до нас в очень плохой сохранности (в частности, утрачено лицо). В стоящей фигуре, которая подносит модель церкви, можно усматривать и Бориса Болгарского и какого-либо русского князя. В обеих миниатюрах довольно ясно проступают владимиро-суздальские черты, сказывающиеся в усилении орнаментальных элементов. Кафтаны и плащи богато разукрашены орнаментом. На первой миниатюре орнамент сплошь покрывает также нимб (ср. орнамент ворота Христа в иконе "Знамение") и декоративную арочку, в которую вписана фигура (эта арочка заставляет вспомнить об аналогичной детали в росписях Успенского собора во Владимире, возникших в эпоху Всеволода III). Лицо Бориса, с большими глазами, еще усиленными резкими тенями, отличается строгим, суровым характером. Оно напоминает лицо Дмитрия Солунского на одноименной иконе из Дмитрова. Эти аналогии дают основание приписывать обе рукописи владимиро-суздальской школе. С последней, несомненно, связан и "Апостол" 1220 года в Историческом музее в Москве. Он происходит из библиотеки ростовского епископа Кирилла I, славившегося своим богатством2. На большой миниатюре представлены стоящие под килевидной аркой апостолы Петр и Павел; над ними изображена полуфигура Христа. Тонкие, стройные фигуры апостолов, облаченные в голубые хитоны и красные гиматии, написаны в свободной живописной манере. В этой же манере выполнены плохо сохранившиеся ангелы заставки. Апостолы Петр и Павел. Миниатюра из "Апостола-" 1220 года. Гос. Исторический музей. Возможно, что в одном из городов Владимиро-Суздальской области был написан и иллюстрирован "Троицкий кондакарь" начала XIII века, хранящийся в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве (Тр.-Серг. лавра 23). Его миниатюра сильно пострадала от времени. Изображено "Явление богородицы Иоанну Дамаскину". Изящная фигура Марии напоминает ангелов дмитриевской росписи3. Есть основания полагать, что во владимиро-суздальском кругу сложился в XIII веке тот извод иллюстрированной летописи, лицевые изображения которого легли в основу миниатюр Радзивилловской летописи, исполненных уже к концу XV века. К памятникам живописи, точнее говоря - гравюры, принадлежат знаменитые двери (западные и южные) суздальского собора, созданные в 20-30-х годах XIII века. Двери эти двухстворчатые, огромных размеров. Они состоят из массивных досок, обитых изнутри железом, а снаружи - медными листами, образующими 56 клейм. Каждое такое клеймо, обрамленное богато орнаментированными продольными и поперечными набивными валиками, заключает в себе какую-нибудь сцену из священного писания. Орнамент и фигурные изображения исполнены, как это установил Ф. Я. Мишуков, не золотой насечкой (так называемая "дамаскова работа"), а особым способом огневого золочения, являющегося своеобразной разновидностью офорта. Рисунок сделан золотой наводкой на пластинах красной меди, по черному лаковому фону. С бархатистым глубоким тоном последнего эффектно контрастируют золотые линии неяркого, теплого свечения. Эта техника, занесенная к нам из Византии, требует большой сноровки. Сначала пластину покрывают лаком, после чего рисунок процарапывают острым инструментом. Очищенные от лака места травят кислотой. Затем приступают к нартучиванию и золочению травленого рисунка. Вначале золото непрочно держится на металле, но как только последний нагревается, входящая в состав амальгамы ртуть начинает испаряться, и расплавленное золото проникает во все очищенные травлением поры металла, соединяясь с ним совершенно нераздельно. Этот способ золочения меди при помощи амальгамы из тонкого листового золота и ртути и нагревания на огне был известен уже Плинию1. Из Рима он был унаследован Византией, которая и передала его нам. Уже Киевская Русь знала способ золотой наводки2. Вполне возможно, что последний был занесен во Вла-димиро-Суздальскую область непосредственно из Киева. От XIII века до нас дошли (помимо суздальских дверей) исполненные в этой же технике две пластинки, хранящиеся в Гос. Эрмитаже (с изображением евангелиста Луки) и в Историческом музее в Москве (с изображением "Крещения"), а также панагиар (с изображением "Троицы"), находящийся в Русском музее3. Западные двери суздальского собора украшены 24 сценами из Нового завета. В верхнем ряду представлены "Ветхозаветная троица" и полуфигура Христа Вседержителя в медальоне, с "Херувимом" и "Серафимом" по сторонам. Далее следуют сцены из жизни богоматери и Христа. Среди этих сцен особенно примечательны: "Святыя богородицы тело несуть ко гробу", "Положение честныяризы богородицы", "Положение пояса богородицы" и "Покров святыя богородицы"; последний, наряду с рельефом Георгиевского собора в Юрьеве-Польском,- едва ли не самое раннее изображение этой темы. Четыре нижних тябла заполнены фигурами львов и грифонов, окруженных пышными разводами. Богатый орнамент покрывает все валики. Средний валик украшен медальонами с полуфигурами святых. Среди последних встречается св. Митрофан, соименный заказчику дверей - епископу суздальскому Митрофану (1227- 1238), погибшему при взятии Владимира татарами в 1238 году (был заживо сожжен в своем соборном храме). Праздник Покрова, неизвестный греческой церкви, был установлен на Руси уже в XII веке, в память о легендарном "явлении" божией матери блаженному Андрею Юродивому (ум. ок. 936) и его ученику Епифанию4. В житии Андрея сообщается о том, как божия матерь предстала ему входящею через главные врата Влахернского храма и как она подошла к алтарю, перед которым стала молиться за людей; по окончании молитвы богоматерь сняла с себя покрывало, или мафорий, и, придерживая его обеими руками, распростерла над всем стоящим народом. Основная идея этого апокрифического сказания и связанного с ним праздника Покрова совершенно ясна. Это популярная в средние века идея заступничества и милосердия, иначе говоря, та же идея, которая так ясно проступает и в столь распространенной на Руси композиции "Деисуса". Недаром в "Псалтири с шестодневом и службами" (Патр. 431), относящейся к середине XIV века, есть такое характерное обращение к богоматери: "за ны грешныя богу помолися, твоего Покрова праздник в рустеи земли прославлыпим"1. Установление праздника Покрова на Руси свидетельствует не только об эмансипации русской церкви от греческой, не только о пробуждении национального самосознания, но и о живучести старых народных верований, которые органически влились в культ богоматери. По тонкому наблюдению Е. С. Медведевой, в этом культе своеобразно объединились фольклорные обрядовые представления о женском благодетельном божестве, о деве-заре и ее чудесной нетленной фате, с преклонением перед девой Марией и ее покровом-ризой. Вот почему иконография Покрова получила такое быстрое развитие на русской почве. И сцена "Покрова" на суздальских вратах, где над головой молящейся богоматери развевается ее поддерживаемый ангелами мафорий, представляет собой одно из самых ранних звеньев этой интереснейшей, чисто русской иконографической темы. Южные двери суздальского собора украшены сценами, иллюстрирующими "деяния ангелов". Здесь объединены такие эпизоды библейской и евангельской истории, в которых главными действующими лицами выступают ангелы и в первую очередь архангел Михаил. Мы находим здесь ветхозаветную "Троицу", "Низвержение сатаны", "Изгнание прародителей из рая","Лествицу Иакова", "Единоборство ангела с Иаковом", "Чудо в Хонах", "Явление бога Аврааму под дубом мамврийским", "Трех отроков в пещи огненной", "Явление ангелов Лоту", "Даниила во рву львином", "Явление ангелов Давиду", "Чудо с купелью", "Предупреждение Лота о грядущей гибели Содома", "Явление ангела Гедеону", "Гибель Содома и Гоморры", "Уничтожение войска ассириян", "Раскаяние Давида", "Архангела Михаила с Иисусом Навином" и "Запрещение пророку Валааму проклинать сынов израилевых". Во всех этих сценах, сопоставленных по чисто внешнему признаку, ангелы всегда играют активную роль (они участвуют в чудесных явлениях, они воплощают грозную "силу господню", они оказывают помощь в качестве небесных "вестников" воинам и полководцам). Художник даже ввел и такую сцену, в которой архангел Михаил обучает Адама копать землю. Лишь в четырех сценах отсутствуют изображения ангелов: это "Сотворение человека", "Жертвоприношение Авеля", "Наречение Адамом имен зверям", "Убиение Каином Авеля". Орнаментальное клеймо южных врат суздальского собора. 1230-1233 годы. Отношение этих четырех сцен к "ангельской" тематике неясно. Возможно, что они имели какое-то скрытое для нас символическое значение. Нижние клейма, как и на западных вратах, заполнены фигурами грифонов и львов среди разводов, а все валики богато украшены орнаментом. На перекрестьях трех верхних валиков и вдоль среднего валика расположены медальоны с полуфигурами святых, часть которых соименна владимиро-суздальским князьям. Есть основания предполагать, что южные двери были исполнены по заказу великого князя владимирского и суздальского Юрия Всеволодовича в 1230- 1233 годах. Исключительный интерес к "ангельской" тематике, который мы находим у создателей южных врат, конечно, не случаен. Он продиктован соображениями государственного порядка. Ангелы во главе с архангелом Михаилом издавна рассматривались в феодальных кругах как "небесные покровители" русских князей. Именно так истолковывается в летописи их легендарная помощь русским князьям, и в первую очередь Владимиру Мономаху, боровшемуся с половцами за русскую землю1. Вероятно, отправляясь от летописи, создатели южных врат напали на мысль дать развернутый ангельский цикл, в символической форме прославлявший великокняжескую власть. При подборе сцен они должны были пользоваться советами какого-то высокообразованного лица, хорошо разбиравшегося во всех тонкостях священного писания. Таким лицом мог быть епископ Симон, который занес текст Печерского извода летописи, где описывается "ангельское" покровительство Владимиру Мономаху, во Владимиро-Суздальское княжество. Мог им быть и епископ Митрофан. Суздальские врата являются памятником первостепенного значения. Учитывая небольшое количество дошедших до нас от XIII века икон и рукописей, приходится отводить им исключительное место в истории русского искусства того времени. Они показывают, какой богатой и разветвленной была Владимиро-суздальская художественная культура накануне вторжения татар. Развернутые славянские надписи не оставляют сомнений в русском происхождении врат, по-видимому, исполненных местными суздальскими мастерами. Эти мастера не очень считались со строгой церковной традицией и порою вводили в изображенные ими религиозные сцены ряд черточек, прямо почерпнутых из жизни. Так, например, в сцене обучения архангелом Михаилом Адама последний представлен копающим землю лопатой. Надпись поясняет смысл изображенного эпизода: "Адам рыльцемь землю копая" (рыльцем назывались железные лезвия лопат; такие лезвия были найдены при раскопках в Суздале и Киеве). Примеры аналогичного обогащения традиционной иконографии жизненными наблюдениями можно было бы без труда умножить. Мастерам суздальских врат удалось создать замечательный памятник прикладного искусства, в котором фигурные сцены превосходно сочетаются с орнаментом. Как фигуры, так и архитектурные и пейзажные кулисы переложены здесь на язык чисто линейных, плоскостных форм, подвергшись при этом сильнейшей орнаментализации. В сочетании с богатым орнаментом обрамлений этот новый прием трактовки получил глубокое внутреннее оправдание. В нем нашла себе отражение тяга к узорочью, характеризующая стиль большинства владимиро-суздальских памятников - настенных рельефов, икон, миниатюр. Вот почему суздальские врата никак не могут быть оторваны от владимиро-суздальской художественной культуры. Их следует рассматривать как одно из самых типических ее проявлений, в котором русские "мизинние" люди показали себя достойными соперниками цареградских мастеров. По мере рассредоточения культуры в связи с ростом феодальной раздробленности отдельные города Владимиро-Суздальской земли начали играть в XIII веке все большую роль. В этих городах стали складываться полные своеобразия местные школы, расцвет которых был пресечен татарским нашествием. Расположенные вдалеке от великокняжеского Владимира местные школы развивались довольно свободно. Они меньше считались с унаследованными от Византии канонами, шире использовали народные традиции, в силу чего их искусство подкупает особой свежестью. Среди этих школ одно из наиболее видных мест принадлежит Ярославлю. Расцвет Ярославля падает в XIII веке на княжение Константина Всеволодовича (1207-1218) и Федора Ростиславича (1259-1299). В 1218 году Ярославль делается центром самостоятельного княжества, престольным городом удельного княжества Ярославского, и с тех пор ему начинают принадлежать Углич, Молога и страны заволжские до Кубенского озера. Особенно много церквей было построено в Ярославле во втором десятилетии: в 1215 году был заложен соборный каменный храм Успения богоматери (освящен в 1219 г.), в 1216 - церковь Спаса в Спасо-Преображенском монастыре (освящена 6 августа 1224 г. ростовским епископом Кириллом), в том же 1216 году была освящена церковь Михаила архангела; ко времени княжения Константина Всеволодовича относится также устройство Петровского мужского монастыря, с организованным при нем училищем (последнее было переведено в 1214 г. в Ростов)1. Вполне естественно, что столь оживленная строительная деятельность должна была способствовать развитию местной школы живописи, перед которой стояла задача украсить росписями и иконами новые храмы. Несколько икон XIII века могут быть объединены в одну стилистическую группу. По-видимому, все они были исполнены в Ярославле. Для них характерна более свободная и смелая манера письма. В них сильнее выступают чисто русские черты, они ярче и жизнерадостнее по краскам, нежели иконы XII столетия. Создавшие их художники обнаруживают особую любовь к украшениям, которыми они порою даже несколько злоупотребляют. Одной из таких ярославских икон начала XIII века является изумительный по красоте образ божьей матери Оранты с медальоном Спаса Еммануила на груди. Этот монументальный образ, ныне хранящийся в Третьяковской галлерее, происходит из Спасо-Преображенского монастыря, что склоняет датировать его концом второго - началом третьего десятилетия XIII Века. Фигура Марии изображена на золотом фоне. Мария стоит в позе Оранты, с воздетыми руками. На ее груди - медальон с полуфигурой благословляющего юного Христа. Два ангела, со сферами в руках, также вкомпонованы в медальоны, заполняющие верхние углы иконы. Этот иконографический тип получил у нас наименование "Знамение божьей матери" (его более точное наименование- "Великая Панагия"). Как доказал Н. П. Кондаков, он восходит к прославленному образу Влахернского храма в Константинополе2. На русской почве он представлен новгородской иконой "Знамения", прославленной иконой Спасо-Мирожского собора в Пскове, двумя фресками в Нередице, рельефом Георгиевского собора в Юрьеве-Польском и росписями в церкви Спаса-Преображения и Волотовской церкви (не считая более поздних примеров)3. Невидимому, этот иконографический тип получил на Руси распространение лишь с XII века, так как раньше он не встречается. Киевская Русь предпочитала образ Оранты без медальона с Еммануилом. По своему торжественному, монументальному характеру иконы "Знамения", отличающиеся подчеркнуто симметрическим построением, очень подходили для культовых целей, будучи величественными и строгими моленными образами. В иконе "Знамение" ярославский мастер радикально перерабатывает греческий прототип. Прежде всего он упрощает линейную систему. Вместо тонких, как паутина, византийских асистов4 он дает широкие золотые пробела, положенные поверх одеяния густого синего тона. Одеяния он богато украшает орнаментом: обрамляющая лицо канва мафория испещрена имитирующими жемчужины точками, к самому мафорию прикреплены три рипидообразные дробницы с драгоценными камнями, рукавчики Марии усеяны точками, посреди которых расположены обведенные теми же точками кружки, ворот хитона Христа расшит сложными узорами. В этой любви к орнаментальным украшениям проявляется настойчивая тяга к узорочью. Яркие, веселые краски иконы являют сочетание синих, красных, белых и кирпично-красных тонов, смело сопоставленных с золотом. Наконец, очень показательны те иконографические вольности, которые допускает автор иконы "Знамение". Христос мало похож на строгого византийского судию мира. Хотя он представлен благословляющим, тем не менее создается впечатление, будто он приветливо раскинул руки навстречу зрителю. При этом его руки выходят за пределы медальона, что еще более усиливает устремленность его фигуры вперед. Никогда византийский художник не позволил бы себе так смело нарушить замкнутость обрамления. А русского мастера подобное отступление от канона отнюдь не испугало. Тем самым он внес в трактовку младенца оттенок особой живости, совсем необычный для византийских иконных изображений. Автор ярославской иконы знал, без сомнения, росписи Дмитриевского собора во Владимире. Отсюда он почерпнул типы своих великолепных ангелов, написанных с подкупающей смелостью и живописностью. Лица богоматери и Христа исполнены в иной, более четкой и линейной манере. С образом "Знамения" следует сближать икону "Спас Златые Власы", находящуюся в московском Успенском соборе. В этом интересном памятнике станковой живописи встречается почти тот же орнамент, что и на рукавчиках Оранты. Фон, перекрестье и гиматий Христа украшены золотыми кружочками с мелким жемчужным обводом и красной сердцевиной (на перекрестье). Богато орнаментирован и ворот гиматия. Здесь наблюдается дальнейший отход от монументальных традиций в сторону ювелирно тонкой отделки живописной поверхности графически острыми линиями и изящными дробными украшениями. Это та же тяга к узорочью, зарождение которой можно было уже отметить на иконе "Знамение". Автором иконы "Спас Златые Власы", ошибочно отнесенной Д. В. Айналовым к новгородской школе, возможно, был ярославский мастер второй четверти XIII века. На принадлежность мастера к ярославской школе указывает и яркая, звонкая колористическая гамма: синий фон сочетается с белыми полями, имеющими красную опушь по внутренней границе и черные надписи, перекрестье - яркозеленого цвета, с золотыми окаймлениями и киноварным контуром по внешнему краю, волосы золотые, расчерченные тонкими коричневыми штрихами, хитон бледновишневый, с притенениями в тон и белильными ударами по гребням складок, плащ темносиний, почти черный, с синими пробелами. Превосходный образец ярославской станковой живописи представляет собой икона "Спаса", происходящая из Успенского собора. Устная легенда относит ее к годам правления ярославских князей Василия (1238-1249) и Константина (1249-1257) и связывает ее с последними непосредственно как моленную икону, быть может, потому, что она помещалась около их гробниц. Общий характер стиля не противоречит такой датировке. По замечанию И. Э. Грабаря, икона "не имеет ничего от новгородской шумливой деловитости, как бы написана под сурдинку, мечтательно и скромно, но очень тонко, с большим чувством формы"1 Добрый, типично русский лик Спаса утратил всякую строгость. Богато орнаментированный ворот гиматия и нашивка указывают на то, что икона изготовлена в Ярославле. Из Ярославля происходят еще три ранние иконы: "Архангел Михаил", большая икона "Толгской богоматери" и малая икона "Толгской богоматери". Первая икона находилась в церкви архангела Михаила, куда она, по-видимому, попала из одноименной церкви, построенной в самом конце 90-х годов XIII века. Ее следует датировать концом XIII - началом XIV столетия. Архангел представлен в рост. На нем красное одеяние с золотыми узорами. В правой руке он держит посох, в левой зерцало. Во фронтально поставленной фигуре есть что-то торжественное и праздничное. Но задумчивое округлое лицо архангела не имеет в себе уже ничего от традиционного канона. Яркая, приветливая раскраска иконы живо напоминает веселый колорит позднейших ярославских росписей. Особенно характерен интенсивный зеленоватый санкирь лица с положенным поверх него красноватым румянцем. Иконы "Толгской богоматери" происходят из Толгского монастыря под Ярославлем, основанного в 1314 году. На большой иконе ("Толгская I") Мария изображена в рост, восседающей на троне. На ее левом колене стоит Христос. Он обхватил ее шею и порывисто прижимается к ее щеке. Над троном представлены два летящих ангела, руки которых скрыты под гиматием. В этой иконе мы имеем усложненный тип "Умиления", отличающийся особой интимностью и непосредственностью выражения. Это, пожалуй, одна из самых эмоциональных русских икон XIII века. Ее несколько сумрачный колорит построен на сочетании темновишневых, розовых, темносиних, желтовато-коричневых и изумрудно-зеленых тонов, удивительно тонко сгармонированных с серебряным фоном (строго говоря, этот фон написан свинцовой краской, подражающей серебру). Этой же краской тронуты орнаментальные части одежды и драгоценные украшения верхней подушки, спинки трона, его седалища и подножия. Лица исполнены наложением на желтую и темнооливковую двухслойную основу охряных и белильных плавей, постепенно сходящих на нет. Под глазами, около рта, на носу и над бровью - энергичные удары белилами, придающие лицам довольно сильный рельеф. Широкое использование орнаментальных украшений на одеянии богоматери, на троне и на верхней подушке - чисто ярославская черта иконы. Один немецкий исследователь высказал предположение об ее итальянском происхождении1. Трудно представить себе более нелепую и беспочвенную гипотезу. Хотя икона "Толгской богоматери" и перекликается эмоциональным строем своих форм с рядом памятников дученто, тем не менее в ней нет не только ничего итальянского, но и ничего западного. Наиболее вероятным временем исполнения иконы следует считать последнюю четверть XIII века. Повидимому, она попала в основанный в 1314 году Толгский монастырь уже как прославленный образ. Малая икона "Толгской богоматери" ("Толгская II") датируется довольно точно 1314 годом, к которому предание относит ее чудесное "явление" ростовскому епископу Прохору (в схиме Трифону)2. Стиль иконы отнюдь не говорит против этой даты. "Толгская II" представляет собой сокращенное переложение "Толгской I" {стр. 499). Художник дал погрудное изображение богоматери, слегка изменив при этом положение ее рук, которые он заимствовал из иконы "Владимирской богоматери". Колорит "Толгской II" стоит в несомненной преемственной связи с колоритом "Толгской I": те же темновишневые, темносиние, изумрудно-зеленые тона, тот же "серебряный" фон. Зато лица исполнены более живописно. Белильные пробела с брошенными поверх них пятнами бликов стушеваны свободно и легко. Положенные над бровями, у зрачков и на носу (у младенца) белые мазки целиком сохраняют свой живописный характер. Из Ярославля происходят два Евангелия, хранящиеся в местном музее, куда они попали из Спасо-Преображенского монастыря и Успенского собора. На двух миниатюрах первой рукописи представлены сидящие друг против друга евангелисты Марк и Лука и евангелист Матфей. Фигуры хрупкие, с маленькими головами, с вытянутыми шеями. Виднеющиеся на втором плане архитектурные кулисы отличаются довольно сложным характером. Они состоят из сильно стилизованных зданий и кивория с завесами. Эти миниатюры датируются, примерно, тем же временем, как и "Апостол" от 1220 года, к лицевым изображениям которого они обнаруживают определенную близость. Вторая рукопись - так называемое "Федоровское Евангелие" - имеет три вшитых более ранних миниатюры с изображениями сидящих евангелистов, относящихся, возможно, к XIII веку. Их стиль очень примитивен: пестрые, яркие краски, переведенная на язык плоскостных форм композиция, лишенные моделировки фигуры и здания, исполненный простой черной краской орнамент. По-видимому, ярославская школа живописи играла крупную роль в XIII веке, потому что ее влияние чувствуется в иконе "Федоровской богоматери", хранившейся в Успенском соборе в Костроме (основан в 1239 г.). Старые источники относят "явление" иконы к 1239 году, в действительности же ее следует датировать началом 70-х годов XIII века, т. е. временем княжения великого князя Василия костромского1. За исключением разрозненных и небольших фрагментов, лицевая сторона иконы, на которой была помещена погрудная композиция "Умиление", утрачена. Насколько можно судить по очертаниям фигур, это изображение было навеяно образом "Владимирской богоматери". К сожалению, и оборотная сторона иконы, с полуфигурой Параскевы, дошла до нас в записанном виде. Лучше сохранилась одежда Параскевы, в свое время богато орнаментированная. Эта орнаментика очень близка к орнаментике иконы "Знамение". Другая происходящая из Костромы икона - "Никола с житием" из Больших Солей (Гос. Русский музей) - занимает совсем обособленное место. Она относится уже к XIV веку, но в ее стиле так много архаического, что ее приходится связывать с гораздо более старыми традициями. Никола представлен в торжественной, застывшей позе. Правой рукой он благословляет, в левой держит книгу. Его короткая, большеголовая фигура несколько напоминает резанные из дерева статуи. Вокруг центрального поля иконы расположены сцены из жизни святого. Заключенные в прямоугольники (так называемые клейма), они следуют одна за другой в хронологическом порядке, давая связный рассказ о деятельности и чудесах св. Николая. Такие иконы назывались на Руси житийными. К нам они были занесены из Византии, где они, однако, никогда не получили столь широкого распространения, как у нас и в Италии. Иконы этого типа содержат обычно множество занимательных подробностей, бросающих яркий свет на жизнь, нравы и обычаи современного им общества. Нередко отдельные сценки бывают проникнуты тонким юмором. Поскольку перед художником стояла задача отобразить живописными средствами биографию святого, он невольно начинал насыщать свой рассказ такими деталями, которые были им почерпнуты непосредственно из окружавшей его жизни. Вот почему клейма житийных икон и, в частности, иконы из Больших Солей выполнены в более реалистическом стиле, нежели центральное изображение святого. Если в последнем всегда подчеркивается иконное начало, то в клеймах, с их многофигурными, живыми композициями, нередко всплывает жанровая трактовка. Именно в этом разрезе икона из Больших Солей вызывает к себе большой интерес. Среди русских житийных икон она является не только одной из древнейших, но и одной из самых замечательных по обстоятельности повествования. После татарского нашествия, со второй четверти XIII века, во Владимиро-Суздальской области надолго прекратилось всякое строительство. Упоминания о закладке новых храмов встречаются в летописях все реже и реже. Монголы нанесли страшный удар русской культуре, уничтожив огромное количество ценностей, разрушив десятки городов, превратив в руины множество церквей. Но им не удалось прервать старые традиции. Культурная жизнь продолжала теплиться в отдельных княжеских уделах, в посадах, в монастырях. Первой очнулась от удара Москва, развившая вскоре кипучую деятельность. Она заняла место Владимира, которому так и не суждено было вновь возвыситься. Каким было искусство Москвы в XII - XIII веках, мы, к сожалению, не знаем. Но есть все основания полагать, что уже с XIII столетия в Москве имелись свои зодчие и живописцы, которые выпускали иконы, вероятно, мало отличавшиеся по стилю от владимиро-суздальских. И. Э. Грабарь совершенно правильно поставил вопрос о раннемосковском искусстве, следующим образом определив его историческое место: "Именно потому, что ранняя Москва была еще вполне суздальской, даже, может быть, более суздальской, чем сам Суздаль, ранние московские памятники мы вправе рассматривать как поздние суздальские"1. Среди икон владимиро-суздальского круга две могут условно считаться московскими. Одна из них происходит из московского Успенского собора. Предание связывает ее с именем московского князя Михаила Ярославича Хороборита2 (упом. 1238-1248). На этом небольшом моленном образе представлен архангел Михаил с коленопреклоненным Иисусом Навином. Примечателен густой, сумрачный колорит иконы, явно подражающий эмали. Цветовая гамма построена на сочетании желтовато-коричневых, темносиних, темновишневых и красных тонов. Этот красный тон (туника и обувь Михаила, плащ Иисуса Навина) мало смягчает общее впечатление колористической суровости иконы, так как киноварь, и без того густая, пройдена в тенях крапповым тоном. Столь же темны по цвету и оливково-коричневые крылья ангела, оживленные по нижнему краю белыми, розовыми и красными папоротниками. Два более светлых пятна иконы (идущая через кольчугу зеленая перевязь и голубой меч) не ломают ее цветовой строй, а лишь обогащают его. Обильная золотая штриховка кольчуги и крыльев, а также золотой орнамент плаща, штанов и туники придают особую нарядность Этому замечательному памятнику, в котором парадная торжественность своеобразно сочетается с глубочайшей одухотворенностью. Строгий лик архангела восходит к традициям XII века, что не мешает относить икону ко времени Хороборита. По колориту икона архангела Михаила близка к иконе Бориса и Глеба в Русском музее. Последняя была приобретена в Москве, куда она, возможно, попала из Мстеры3. Типы обоих святых сближают икону Русского музея с более поздней иконой Успенского собора в Москве, где Борис и Глеб изображены в виде всадников. Наиболее вероятным временем исполнения иконы следует считать второе десятилетие XIV века, на что указывает свободное распределение пробелов и бликов на лицах, живо напоминающее икону "Толгскоп богоматери II". Сыновья великого князя Владимира Борис и Глеб, предательски убитые их братом Святополком, были причислены церковью уже в 1071 году к лику святых. С этого времени утвердился праздник Бориса и Глеба, приуроченный ко дню перенесения их мощей в новую церковь, выстроенную князем Изяславом Ярославичем в Вышгороде. В 1115 году мощи Бориса и Глеба были водворены в названной их именем каменной церкви в том же Вышгороде4. Культ Бориса и Глеба получил отражение в одном из древнейших памятников русской литературы - в относящемся к концу XI-началу XII века "Сказании о Борисе и Глебе". В честь обоих братьев было построено много церквей и обителей, их изображения пользовались большой популярностью. Иконы Бориса и Глеба были хорошо известны уже Киевской Руси, о чем свидетельствовала похищенная фашистами из музея Киево-Печерской Лавры икона XII века. Даже в цареградской Софии находилась большая икона Бориса и Глеба, которую видел в 1200 году совершивший паломничество в Константинополь Добрыня Ядрейкович, будущий новгородский архиепископ Антоний. По его словам, копии с этого образа можно было купить у иконописцев, вероятно, в самом храме5. Икона Русского музея является, несомненно, одним из случайно уцелевших звеньев длинной цепи аналогичных памятников. Тем более велико ее значение не только как выдающегося художественного произведения, но и как ценнейшего иконографического документа. Оба русских святых изображены с мечами в руках. Эти мечи даны здесь как атрибуты княжеской власти. Борис и Глеб обращены прямо к зрителю, "да входяще вернии людии в церковь ти видяще его образ написан и акы самого зряще". Так киевский писатель XI века определяет задачу подобных моленных образов1. Борис и Глеб облачены в национальные одеяния. На них кафтаны с наброшенными поверх плащами (так называемое "корзно"), на головах - шапочки с собольей опушкой, на ногах - сафьяновые сапожки. Лица Бориса и Глеба сосредоточенны и печальны. Иконописец сохранил в этих липах то индивидуальное начало, которое, возможно, лежало в основе древнейших изображений Бориса и Глеба. Остротой характеристики лица обоих святых далеко оставляют за собой литературные "портреты" того времени. Действительно, стоит только сравнить фигуру Бориса с описанием его внешности в "Сказании о Борисе и Глебе", чтобы сразу же сделалась очевидной правильность этого положения. "Телъмь бяше красьн, высок, лицьмь круглъмь, плечи велице, тънък в чресла, очима добраама, весел лицьмь, борода мала и ус, млад бо бе еще, светяся цесарьскы, крепък телъмь, всячьскы украшен, акы цвьт цвьтый в уности своей"2. Все то, что в слове оказалось облеченным в риторическую, безличную форму, в пластическом образе получило неизмеримо большую силу индивидуального выражения. Икона Бориса и Глеба является в колористическом отношении одним из самых красивых памятников древнерусской станковой живописи. Четкими силуэтами выделяются фигуры на золотом фоне, с которым эффектно контрастируют их сияющие, как драгоценные эмали, одеяния: розовато-красный кафтан и глубокого темносинего тона плащ Бориса, розовато-фиолетовый кафтан и розовато-красный плащ Глеба, горностаевая и беличья подкладки плащей, отделанные красным и зеленым шапочки, сафьяновые сапожки. Плащ Бориса украшен золотым орнаментом, кафтан Глеба - серебряным. На этом кафтане фигурируют столь излюбленные владимиро-суздальской пластикой изображения птиц и зверей, в том числе и грифонов. При всем ослепительном богатстве красок иконы ее колорит отличается редким лаконизмом и удивительной последовательностью, поскольку любой цвет кажется как бы с неизбежностью вытекающим из другого, которой он дополняет и усиливает. В этом замечательном памятнике цвет доведен до такой чистоты звучания, а плоскостной силуэт приобрел такую графическую выразительность, что икону Бориса и Глеба невольно хочется рассматривать как пролог ко всей позднейшей русской иконописи. Владимиро-суздальская школа скульптуры и живописи знаменует собою один из высших взлетов древнерусского искусства. Ее мастера создали свой оригинальный художественный мир, поражающий богатством и полнокровностью образов. И хотя все дошедшие до нас памятники владимиро-суздальской скульптуры и живописи связаны с высшими кругами феодального общества (они были выполнены по заказу либо князей, либо церковной знати), в них очень сильны народные черты. Сделанные руками "мизинних людей", эти памятники наглядно говорят о том, каким разветвленным и крепким было народное творчество. Оно способствовало растворению строгих византийских догм и канонов в более жизнерадостном и свободном понимании мира и человека, оно привело к победе в монументальной пластике принципов и приемов деревянной резьбы, оно насытило палитру художников яркими, веселыми красками, в которых не осталось и следа византийской сумрачности, оно помогло проникновению в церковное искусство многочисленных фольклорных мотивов и, прежде всего, народного орнамента. Вот почему на путях становления русского национального искусства народному творчеству принадлежит такое почетное и видное место. 1. Вместо заключения. ТАТАРСКОЕ ИГО И СУДЬБЫ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОГО ИСКУССТВА Блестящему расцвету русской культуры XII и первой четверти XIII века был положен внезапный конец страшным татарским нашествием. Начиная с 1223 года татары стали систематически грабить и разорять русские земли. За исключением Новгорода, большинство городов сделалось их добычей. Они предавали огню и мечу всё и вся. По словам одного мусульманского историка, от их рати "стонала земля; от громады войска обезумели дикие звери и ночные птицы". Владимирский епископ Серапион, живший в конце XIII века дал особенно образное описание татарского ига: "И вот навел он [бог] на нас народ немилостивый, народ лютый, народ, не щадящий красоты юношей, немощи старцев, младости детей. Воздвигли мы на себя ярость бога нашего, разрушены божественные церкви, осквернены священные сосуды, потоптана святыня, святители преданы мечу, тела монашеские брошены птицам, кровь отцов и братьев наших, словно вода, обильно напоила землю. Исчезло мужество князей и воевод наших; храбрецы наши, исполненные страха, обратились в бегство. А сколько их уведено в плен! Села поросли сорною травою; смирилось величие наше, погибла красота наша. Богатство, труд, земля - все достояние иноплеменных"1. Для Руси наступили тяжелые времена. Население спасалось в непроходимые дебри, куда трудно было проникнуть татарской коннице. Углублялась разобщенность областей. Культурные связи с Византией и Балканами оказались почти прерванными. Нравы грубели, образование падало, усиливались набожность и чувство обреченности. Татарское иго, помимо огромных материальных разрушений, оскорбляло национальное достоинство народа. В сознании лучших представителей русского общества оно вызывало воспоминание о тех далеких временах, когда Русь была независимой и богатой. И устами автора "Слова о погибели Русской земли", написанного на протяжении второй четверти XIII века, они восклицали: "О светло светлая и красно украшенная земля Русская! Ты многими красотами давно изукрашена: ты замечательна многими озерами, реками и месточестными кладезями, крутыми горами, высокими холмами, чистыми дубравами, прекрасными полями, различными зверями, бесчисленными птицами, великими городами, прекрасными селениями, виноградными садами, церквами и грозными князьями, честными боярами, многими вельможами"2. Как ни тяжело было татарское иго, оно все же не смогло подавить волю и пресечь культурные традиции такого могучего народа, каким был русский народ. И в XIII веке продолжали существовать отдельные очаги культуры, строились церкви, писались иконы, изготовлялись рукописи, создавались произведения прикладного искусства. Но монументальное искусство уже не достигало такого размаха, как в предшествующие столетия. Не хватало рабочих рук, недоставало средств, отсутствовало необходимое для возведения и украшения крупных зданий чувство обеспеченности. И хотя татары относились сравнительно терпимо к духовенству и ремесленникам, тем не менее строительство церквей и особенно гражданских сооружений сильно упало. Поэтому создались неблагоприятные условия для развития монументальной живописи и скульптуры, которые почти не находили себе применения. Все небольшое, легко переносимое, что без особого труда могло быть спрятано, особенно ценилось в эти тяжелые времена. Тем самым станковое и прикладное искусство имело значительное преимущество перед монументальным. Эти виды художественного творчества и явились главным носителем тех традиций, которые передавались из поколения в поколение и которые не в силах было вытравить даже татарское иго. Лучшим подтверждением этому может служить судьба владимиро-суздальского художественного наследия. Когда начали возвышаться Тверь и Москва, они сознательно примкнули к культуре Владимиро-Суздальского княжества, которая была ими широчайшим образом использована. Московские князья рассматривали себя прямыми преемниками владимирской великокняжеской власти, завоевавшей первенство во всей Великороссии и притязавшей на распоряжение ее боевыми силами и на руководство ее отношениями к Орде и соседним странам. Недаром московские князья принимали до 1432 года великокняжеский титул под ветхими сводами владимирского Успенского собора; недаром Калита и его потомки чтили память своего предка Александра Невского и хранивший его останки владимирский Рождественский монастырь; не случайно при Дмитрии Донском, после победы на Куликовом поле над монголами, происходит открытие мощей князя Александра, чье имя окружается ореолом славы народного героя. Испепеленный и поруганный, Владимир все же сохраняет свою притягательную силу. Русская церковь избирает его своим центром, митрополит Кирилл III созывает здесь в 1274 году собор русских епископов, а в 1305 году в том же Владимире создается общерусский летописный свод. Простирая свою не считавшуюся с удельными границами власть на все русские земли, церковь как бы ставит себе задачей обрисовать в целостном изложении летописи историю этих русских земель вне зависимости от их местоположения и племенного состава. И когда московские князья начинают строить, они сознательно примыкают к традициям владимирской "белокаменной" архитектуры. Но не только московские зодчие используют эти традиции. От них исходит и великий русский живописец Андрей Рублев, возобновляющий в 1408 году древние фрески Успенского собора, из которых он черпает яркие художественные впечатления, в немалой степени обогатившие его собственное творчество. Наконец, псковские и итальянские зодчие, готовясь строить Успенский собор в Москве, едут, по совету Ивана III, во Владимир, чтобы тщательно изучить его архитектурные памятники. Совет великого князя Ивана имел глубокий смысл. Он был подсказан сознанием того, что именно на владимирской почве были созданы самые монументальные и величественные для XII века памятники, которые связывались с тем временем, когда Русь не знала татарского ига и была независимой и сильной под властью владимирских князей. Список использованной литературы История русского искусства./Под общей редакцией академика И. Э. Грабаря, В. Н. Лазарева, В. С. Кеменова. Т. 1. Изд-во Академии Наук СССР, 1953. А. Пресняков. Образование великорусского государства. Пг., 1918. История русского искусства: Учебник/Под ред. В. И. Плотникова. -М.: Изобразительное искусство, 1980. А. Мансуров. Старая Рязань. Рязань, 1927; Н. М ил о н о в. Дмитровское городище. - "Советская археология", 1937, IV, стр. 147-168; А. Д у б ы н и н. Археологические исследования г. Суздаля.-"Краткие сообщения ИПМК АН СССР", вып. XI, 1945. Островский Г. С. Рассказ о русской живописи. -М.: Изобразит. искусство, 1989. Н. Воронин. Боголюбовский киворий. -"Краткие сообщения НИМКАНСССР", вып. XIII, 1946. История культуры Древней Руси. /Под общей ред. академика Б. Д. Грекова и проф. М. И. Артамонова. Т. 1. -М., -Л.; Изд-во Академии Наук СССР, 1948. Н. Воронин. Памятники владимиро-суздальского зодчества XI-XIII веков. М.-Л., 1945. А. Карнеев. Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб., 1890, стр. 330. Ср. G. Millet. Lascension dAlexandre.-"Syria", 1923, IV, стр. 88-133; А. Банк. Моливдовул с изображением полета Александра Македонского на небо.-"Труды отдела Востока Гос. Эрмитажа", III. Л., 1940, стр. 181-188. Алленов М. М.,Евангулова О. С., Лифшиц Л. И. Русское искусство X - начала XX века. -М.: "Искусство", 1989. Е. Evans. Animal symbolism in Ecclesiastical architecture. London, 1896. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. -М.: Искусство, 1993. Н. Чаев. О русском старинном церковном зодчестве.- "Древняя и Новая Россия", 1878, № 6. Зотов А. И. Русское искусство с древнейших времен до начара XX века. -М.: "Искусство", 1979. D. Ainalov. Geschichte der russischen Monumentalkunst der vormoskovitischen Zeit. Berlin-Leipzig, 1932. Е. Аничков. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914. И. Орбели и К. Тревер. Сасанидский металл. Л., 1935, таб.1. 26, 30, 31, 39, 67; 0. von FaIke. Kunstgeschichte der Seictenweberei. Berlin, 1921. Н. Кондаков. О научных задачах истории древнерусского искусства. A. Pope. A Survey of Persian Art. VI. Oxford, 1938. В. Иконников. Опыты исследования о культурном значении Византии в русской истории. Киев, 1869. Летопись Боголюбова монастыря с 1158 по 1770 год, составленная по монастырским актам и записям настоятелем оной обители игуменом Аристархом в 1767-1769 годах. - "Чтения в Обществе истории и древностей российских", 1878. I. Grabar. Die Freskomalerei der Dimitrij-Kathedrale in Wladimir. Berlin, 1920. Е. Голубинский. История русской церкви. Т. II (1). М., 1900. И. Грабарь. Андрей Рублев. A. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии СПб., 1910. Н. Гудзий. Хрестоматия по древней русской литературе. М., 1947. 1 А. Пресняков. Образование великорусского государства. Пг., 1918, стр. 34. 2 А. Пресняков. Указ. соч., стр. 84. 1 Лаврентьевская летопись под 6604 (1096) годом. 2 Лаврентьевская летопись под 6668 (1160) годом. 3 А. Мансуров. Старая Рязань. Рязань, 1927; Н. М ил о н о в. Дмитровское городище. - "Советская археология", 1937, IV, стр. 147-168; А. Д у б ы н и н. Археологические исследования г. Суздаля.-"Краткие сообщения ИПМК АН СССР", вып. XI, 1945, стр. 91-99. 1 Патерик Киево-Печерского монастыря. СПб., 1911, стр. 9. Лаврентьевская летопись под 6730 (1222) годом. 2 Разведки в Ростове Н. Н. Воронина (1939), раскопки в Суздале А. Д. Варганова и А. Ф. Дубынина (с 1937 г.). 1 Н. Воронин. Социальная топография Владимира и "чертеж" 1715г.-"Советская археология", 1945, VIII, стр. 148-174. 2 Типографская летопись.- Полное собрание русских летописей, т. XXIV. Пг., 1921, стр. 77. 1 Косой срез стенной поверхности. 1 Ипатьевская летопись под 6683 (1175) годом. 2 Этот верх памятника передают древние миниатюры и древнейший план города 1715 года. 1 Лаврентьевская летопись под 6666 (1168) годом. 1 Ипатьевская летопись под 6683 (1175) годом. 1 Ипатьевская летопись под 6683 (1175) годом. 1 Ипатьевская летопись под 6683 (1175) годом. 2 Археологические исследования в РСФСР в 1934-1936 годах. Л., 1941. стр. 96. 3 Основные вопросы реконструкции дворца изложены в конспективной статье автора в "Кратких сообщениях о докладах и полевых исследованиях ИИМК АН СССР", вып. XI, 1945, стр. 78-86. 1 Ипатьевская летопись под 6683 (1176) годом. 2 Следов притвора не сохранилось, так как они были уничтожены позднейшими склепами; о притворе, как открытом преддверии храма, говорит тот же рассказ Ипатьевской летописи под 1175 годом: когда собор оказался запертым, тело князя Андрея было оставлено в "притворе". 1 Н. Воронин. Боголюбовский киворий. -"Краткие сообщения НИМКАНСССР", вып. XIII, 1946. 2 Лаврентьевская летопись под 6668 (1160) годом. 1 Лаврентьевская летопись под 6720 (1212) годом. 1 Открыта при реставрационных работах П. Д. Барановским. 1 Н. Воронин. Памятники владимиро-суздальского зодчества XI-XIII веков. М.-Л., 1945. 1 А. Карнеев. Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб., 1890, стр. 330. 2 Ср. G. Millet. Lascension dAlexandre.-"Syria", 1923, IV, стр. 88-133; А. Банк. Моливдовул с изображением полета Александра Македонского на небо.-"Труды отдела Востока Гос. Эрмитажа", III. Л., 1940, стр. 181-188. 1 Лаврентьевская летопись под 6668 (1160) годом. 1 А. Карнеев. Указ. соч., стр. 162. 2 Е. Evans. Animal symbolism in Ecclesiastical architecture. London, 1896, стр. 86. 3 См. А. Некрасов. О гербе суздальских князей.-В кн.: Сборник в честь А. И. Соболевского. Л., 1928. 1 Такое истолкование образа Давида было дано покойной Е. С. Медведевой. 1 Лаврентьевская летопись под 6702 (1194) годом. 2 Воскресенская летопись под 6720 (1212J годом; Лаврентьевская летопись под 6720 (1212) годом. 3 B. Доброхотов. Памятники древностей во Владимире Кляземском. М., 18*9. 4 Н. Ч а е в. О русском старинном церковном зодчестве.- "Древняя и Новая Россия", 1878, № 6, стр. 150-131. 5 "Владимирские губернские ведомости", 1844, № 16 (прибавление). 6 Н. Кондаков. О научных задачах истории древнерусского искусства.- Памятники древней письменности и искусства, вып. ХХII. СПб., 1899, стр. 1-47; И. Толстой и Н. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, вып. VI. СПб., 1899, стр. 26-58. 7 D. Ainalov. Geschichte der russischen Monumentalkunst der vormoskovitischen Zeit. Berlin-Leipzig, 1932, стр. 78-82. 1 Д. Бережков. О храмах Владимиро-Суздальского княжества.-"Труды Владимирской ученой архивной комиссии", V, 1903, стр. 83. 1 Н. Воронин. Скульптурный портрет Всеволода III.- "Краткие сообщения Института истории материальной культуры", вып. XXXIX. М., 1951, стр. 137-139. 1 Лаврентьевская летопись под 6604 (1066) годом. 2 Е. Аничков. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914, стр. 115. 3 М. Азбукин. Очерк литературной борьбы представителей христианства с остатками язычества в русском народе.-"Русский филологический вестник", 1896, № 2, стр. 228. 4 М. Азбукин. Указ. соч., стр. 225. 5 Там же, стр. 230. 1 Л. Мацулевич. Хронология рельефов Дмитриевского собора во Владимире-Залесском.-"Ежегодник Российского института истории искусства", 1922, I, стр. 253-299. 1 F. Halle. Die Bauplastik von WIadimir-SsusdaI, стр. 53. 2 Monumenta Germaniae historica", III, стр. 812. 3 А. Г и л ь ф е р д и н г. История балтийских славян. СПб., 1874, стр. 220. 4 S а х о Grammaticus. Historia danica.-"Monumenta Сегтящае historica", XXIX, стр. 122. 1 И. Голышев. Памятники старинной русской резьбы по дереву во Владимирской губернии. Мстера, 1876. Карнизы домов в деревне Селищи и в селе Мстера. 2 А. Бобринский. Народные русские деревянные изделия. Изд. 2, вып. VIII, табл. 107, 3 и 8; вып. X, табл. 133, 7-9; вып. XI, табл. 151, 1 и 11. 3 "Собрание русской старины" В. П. Сидамон-Эристовой и Н. П. Шабельской. Вып. 1. Вышивки и кружева. М., 1910, табл. I, II, IV, VIII, XI. 1 J. Strzygowski. Die Baukunst der Armenier und Eiiropa, II. Wien, 1918, стр. 722. 2 F. Halle. Указ. соч., стр. 41 - 42. 3 Ср. А. Гущин. Памятники художественного ремесла древней Руси. Л., 1936, стр. 44 - 47. 4 С. Е п 1 a r t. Manuel darcheologie francaise. 1. Architecture religieuse. 1-е partie. Periodes merovin-gienne, carolingienne et romane. Paris, 1919, стр. 376 -378; E. Male. Lart religieux (1u XII siecle en France. Paris, 1922, стр. 340-363. 5 А. Гущин. Указ. соч., табл. XXII-XXIV. 1 И. Орбели и К. Тревер. Сасанидский металл. Л., 1935, таб.1. 26, 30, 31, 39, 67; 0. von FaIke. Kunstgeschichte der Seictenweberei. Berlin, 1921, рис. 54. 2 И. Орбели и К. Тревер. Указ. соч., табл. 33, 27. 3 О. von Falke. Указ. соч., рис. 180-185. 4 Н. Кондаков. О научных задачах истории древнерусского искусства. 1 М. Соколов. Новый материал для объяснения амулетов-змеевиков. - "Древности. Труды Славянской комиссии Московского археологического общества", 1. М., 1895, стр. 134 - 202. 2 A. Pope. A Survey of Persian Art. VI. Oxford, 1938, табл. 983 А; 0. von FaIke. Указ. соч., рис. 193-195. 1 J. В а и т. Larchi lecture romane en France, Paris, 1920, стр. 39 и 82. 1 Летопись Боголюбова монастыря с 1158 по 1770 год, составленная по монастырским актам и записям настоятелем оной обители игуменом Аристархом в 1767-1769 годах. - "Чтения в Обществе истории и древностей российских", 1878, кн. 1, стр. 3-4. 2 Там же, стр. 18. 1 В. Иконников. Опыты исследования о культурном значении Византии в русской истории. Киев, 1869, стр. 63. 1 Ср. фигуру святителя в апсиде Трехсвятительского (Егорьевского) придела киевской Софии. 1 Лаврентьсвская летопись под 6741 (1233) годом. 2 Лаврентьевская летопись под 6739 (1231) годом. 1 В 1518 году были привезены в Москву из Владимира иконы Спаса Вседержителя и богородицы "на устроение и поновлепие, многими леты обветшавша". Иконы были обновлены митрополитом Варлаамом. См. Софийскую вторую летопись под 7026 (1518) годом и Воскресенскую летопись под этим же годом. 2 I. Grabar. Die Freskomalerei der Dimitrij-Kathedrale in Wladimir. Berlin, 1920, табл. XI, XXXIV, LXIII. 3 Там же, табл. XLVII. 4 Об иконостасе см.: Г. Филимонов. Церковь св. Николая Чудотворца на Лииие близ Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквах. М., 1859; Е. Г о л у б и н с к и и. История русской перкви. Т. I. 2-я половина тома. Изд. 2. М., 1804, стр. 195-215; В. К о n s t a n t i n о w i c z. Ikono-stasis. Studien und Forsclrungen. I. Lwow, 1939. 1 Symeon Tessalon. De sacro tempio, гл. 136 (Migne. Patrol, gr., CLV, стр. 345). 2 Ср. В, Сокол. Деисусный чин.-"Казанский музейный вестник", 1922, № 2, стр. 86-65. 1 И. Толстой и Н. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, вып. V. СПб., 1897, рис. 191-192,194; Собрание Б. и В. Х а н е н к о. "Древности Приднепровья", вып. 5. Киев 1902, табл. XXXII; А. Гущин. Памятники художественного ремесла древней Руси X-XIII вв. Л., 1936, табл. IX. 2 Патерик Киево-Печерского монастыря. Под ред. Д. Абрамовича.- "Памятники славяно-русской письменности, изданные имп. Археографической комиссией", II. СПб., 1911, стр. 123. 3 Ср. М. Alpatov u. N. Brunov. Geschichte der altrussischen Kunst. Augsburg, 1932, стр. 291 (здесь приведены многочисленные примеры изображения "Деисуса" в русском искусстве. XI-XIV веков). 4 А. Бобринский. Резной камень в России, вып. 1. М., 1916, табл. 13-2. 5 Там же, табл. 31-4. 6 Там же, табл. 33-4, 37-2,3, 38-3,4. 6 Там же, табл. 39-6,7. 1 Ипатьевская летопись под 6683 (1176) годом. Ср. Е. Голубинский. История русской церкви. Изд. 2. Т. I (2), М., 1904, стр. 215. 2 Летопись Боголюбова монастыря, стр. 2-3. 1 A. Venturi. Storia dellarte italiana, II. Milano, 1902, рис. 370 и 371. 2 Б. Рыбаков. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси Х-XII вв.-"Советская археология", 1940, VI, стр. 235-236. Хотя княжеский знак собственности относится к слою живописи XVI века, тем не менее весьма вероятно, что он воспроизводит аналогичный знак утраченного в этом месте оригинала. Нет никаких данных для того, чтобы усматривать в Дмитрии Солунском портрет Всеволода Юрьевича. 3 Воскресенская летопись под 6720 (1212) годом. Ср. также Лаврентьевскую летопись под этим же годом. Предварительное обследование этой иконы показало, что старая живопись почти целиком утрачена. Фигура Дмитрия была изображена стоящей во весь рост. 4 Е. Г о л у б и н с к и й. История русской церкви. Т. II (1). М., 1900, стр. 96. 5 И. Грабарь. Андрей Рублев, стр. 55-86. 1 A. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии СПб., 1910, стр. 207. 2 А. Соболевский. Указ. соч., стр. 206. 3 А. Некрасов. Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937, стр. 137. 1 Рlinius, lib. 33, sect. 32, 42. 2 Об этом свидетельствует медная пластинка с изображением трех стоящих воинов, найденная на Княжей горе в Черкасском уезде Киевской губернии. Изображение выполнено техникой золотой наводки. См. собрание Б. и В. Ханенко. "Древности Приднепровья", вып. 5. Киев, 1902, стр. 29, № 281-а. 3 И. Гальнбек.О технике золоченых изображении па Лихачевских вратах в Гос. Русском музее.- "Материалы по русскому искусству, изданные художественным отделом Гос. Русского музея", I. Л., 1928, стр. 23, рис. 1; "Отчет Исторического музея в Москве за 1909 год". М., 1910, стр. 17; Н. Малицкий. Створка панагиара Гос. Русского музея с золоченым изображением троицы.-"Материалы по русскому искусству, изданные художественным отделом Гос. Русского музея", I. Л., 1928, стр. 32-36. 4 Сергий, архиеп. Святый Андрей Христа ради Юродивый и праздник Покрова богородицы. СПб., 1898; Н. Кондаков. Иконография богоматери, II, стр. 92-102; Н. Сычев. Древлехранилище памятников русской иконописи и церковной старины. - "Старые годы", 1916, январь-февраль, стр. 22-52. 1 A. Горский и К. Невоструев. Описание славянских рукописей московской Синодальной библиотеки. М., 1869, отд. III, ч. 1, стр. 554. 1 Ипатьевская летопись под 6618-6619 (1110-1111) годами; Лаврентьевская летопись под 6618 (1110) 1 К. Головщиков. История города Ярославля, Ярославль, 1889, стр. 24-52. 2 Н. Кондаков. Иконография богоматери, II, стр. 105-123. 3 Там же, рис. 43, 44, 45; Л. Мадулевич. Церковь Успения пресвятой богородицы п Болотове. СПб., 1912, табл. 1. 4 Так называются золотые линии, которыми иконописцы намечают складки одеяний. 1 И. Грабарь. Андрей Рублев, стр. 68-59. 1 Ph. Schweinfurth. Geschichte der russischen Malerei im Mittelalter. Haag, 1930. 2 Д. Орлов. Ярославский Толгский монастырь. Ярославль, 1913, стр. 158. В Ярославском музее хранится икона, близкая к "Толгской II". 1 П. Островский. Историческое описание костромского Успенского собора. М., 18S5, стр. I-XV, 1-30; А. Экземплярский. Великие и удельные князья с 1238 по 1506 т., II. СПб., 1891, стр. 264; Н. Кондаков. Иконография богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. СПб., 1911, стр. 88-60. 1 И. Грабарь. Андрей Рублев, стр. 65. 2 Не исключена возможность, что эта икона, с давнего времени находившаяся в Успенском соборе, попала сюда из построенной Михаилом Хороборитом церкви Михаила архангела. На месте этой церкви стоит теперешний Архангельский собор. См. О. Wuiff и. М. А1рatоff. Denkmaler der Ikonenmalerei. Hellerau bei Dresden, 1925, стр. 264 - 265. 3 1 П. Нерадовский. Борис и Глеб из собрания Н. П. Лихачева.-"Русская икона", I. СПб., 1914, стр. 63, 78. Ср. И. Грабарь. Андрей Рублев, стр. 61. Существует не совсем надежное устное предание, что икона Бориса и Глеба привезена из района Мезени и Печоры. 4 2 В. Лесючевский. Вышгородский культ Бориса и Глеба в памятниках искусства.- "Советская археология", 1946, № 8, стр. 175, 224. 5 Книга Паломник. Сказание мест святых во Цареграде Антония, архиепископа новгородского в 1200 году.-"Православный палестинский сборник", XVII, вып. 3. СПб., 1899, стр. 16. 1 Д. Абрамович. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916, стр. 18, 107. 2 Н. Гудзий. Хрестоматия по древней русской литературе. М., 1947, стр. 78. 1 Цитата из переложения С. К. Шамбинаго (Книга для чтения по русской истории. Под ред. проф. М. В. Довнар-Заполъского. Т. М., 1904, стр. 615-616). 2 А. Орлов. Древняя русская литература XI-XVI вв. М.-Л., 1937, стр. 167. 33 Работа на этой странице представлена для Вашего ознакомления в текстовом (сокращенном) виде. Для того, чтобы получить полностью оформленную работу в формате Word, со всеми сносками, таблицами, рисунками, графиками, приложениями и т.д., достаточно просто её СКАЧАТЬ. |
|
| Все права на представленные на сайте материалы принадлежат refbank.ru. Перепечатка, копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено. |
|
 Банк готовых работ
Банк готовых работ



